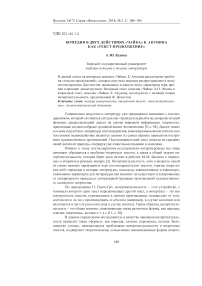Комедия в двух действиях "Чайка" Б. Акунина как "текст-продолжение"
Автор: Кудина Анастасия Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
В данной статье на материале комедии «Чайка» Б. Акунина рассмотрена проблема «текстов-продолжений», которые получили широкое распространение в эпоху постмодернизма. Для текстов, написанных в данную эпоху, характерны игра, ирония и принцип деконструкции. Исходный текст, комедия «Чайка» А.П. Чехова, и вторичный текст, комедия «Чайка» Б. Акунина, исследуются с позиций теории интертекстуальности, предложенной Ж. Женеттом.
Теория интертекста, вторичный текст, "текст-продолжение", постмодернистский детектив
Короткий адрес: https://sciup.org/146281283
IDR: 146281283 | УДК: 821.161.1-2
Текст научной статьи Комедия в двух действиях "Чайка" Б. Акунина как "текст-продолжение"
Современное искусство и литературу уже традиционно связывают с постмодернизмом, который осознается сегодня как «транскультурный и мультирелигиозный феномен, предполагающий диалог на основе взаимной информации, открытость, ориентацию на многообразие духовной жизни человечества» [9, с. 94]. Диалог лежит в основе искусства и литературы постмодернизма, взаимопроникновение текстов и их постоянное взаимодействие являются одними из самых важных принципов построения художественных произведений. Постмодернистский текст никогда не скрывает своей цитатной природы, оперируя уже известными языками и моделями.
Именно в эпоху постмодернизма исследователи-литературоведы все чаще начинают обращаться к проблеме вторичных текстов, а также к общей теории интертекстуальности, которая берет свои истоки в работах М. М. Бахтина о первичных и вторичных речевых жанрах [2]. Интертекстуальность, хотя и является одной из самых важных характерных черт постмодернистских текстов, гораздо шире каких-либо периодов в истории литературы, поскольку взаимовлияние и взаимопроникновение характерно для литературы как явления: не существует изолированных от литературного процесса и литературной традиции произведений художественного словесного творчества.
По определению Н. Пьеге-Гро, интертекстуальность – «это устройство, с помощью которого один текст перезаписывает другой текст, а интертекст – это вся совокупность текстов, отразившихся в данном произведении, независимо от того, соотносится ли он с произведением in absentia (например, в случае аллюзии) или включается в него in praesentia (как в случае цитаты). Таким образом, интертекстуальность – это общее понятие, охватывающее такие различные формы, как пародия, плагиат, перезапись, коллаж и т. д.» [11, с. 56].
В данном определении исследователь в качестве примеров интертекстуальности приводит такие «формы», как пародия, плагиат, перезапись, коллаж. Большинство ученых, занимающихся проблемами интертекстуальности и вторичных текстов, подвергают теоретическому осмыслению вышеназванные формы вторич- ных текстов. На периферии исследовательских интересов оказывается такой феномен, как «текст-продолжение» (рабочий термин, который мы будем использовать). Массив «текстов-продолжений» достаточно велик, особенно много подобных текстов в литературе ХХ века, но до настоящего времени они не вызывали серьезного исследовательского интереса, поэтому оказались практически не изученными.
Под термином «текст-продолжение» мы понимаем текст, который является продолжением известного оригинального произведения, ставшего, как правило, каноническим. Зачастую такие тексты оказываются не только признанными шедеврами национальной литературы, но и прецедентными текстами культуры в целом.
Стоит отметить, что «тексты-продолжения» существовали и до ХХ века, но в ХХ веке, когда постмодернизм становится основным направлением в литературе, а принцип деконструкции [4] – основополагающим принципом построения художественных произведений, подобные тексты получают наибольшее распространение. В постмодернизме господствует всеобщее смешение и ирония, одним из главных его принципов стала «культурная опосредованность», или цитата. «Мы живём в эпоху, когда все слова уже сказаны, – обронил как-то Аверинцев, – поэтому каждое слово, даже каждая буква в постмодернистской культуре – это цитата» [12].
Комедия «Чайка», написанная Б. Акуниным в 2000 году, – это текст, созданный в постмодернистской парадигме, совмещающий в себе черты как «диалога с первичным текстом», так и «текста-завершения» (по классификации Л.М. Майдановой [8).
Чеховская комедия состоит из четырех действий и заканчивается самоубийством Константина Треплева. В основе сюжета «Чайки» Акунина лежит предположение о том, что произошло не самоубийство, а убийство Константина Треплева. Во втором действии Акунин обыгрывает все версии возможного преступления, используя чеховский текст и предзаданность характеров и обстоятельств: «автору новой “Чайки” удается сохранить логику чеховских характеров, речевую манеру и поведенческий репертуар каждого персонажа» [13, с. 33]. Некоторые исследователи, напротив, полагают, что «в тексте нарушена логика чеховского повествования, до неузнаваемости изменены характеры и взаимоотношения персонажей» [10, с. 16].
Противоположность оценок данного текста дает нам возможность рассматривать его и как диалог двух текстов, и как альтернативное продолжение, развивающее детективную линию. Драматический текст Акунина является постмодернистским детективом и не подходит под жанровые критерии детектива в его традиционном понимании, тем более что сам Акунин вслед за Чеховым определяет жанровую принадлежность своего произведения как «комедию». Традиционный детектив направлен на поиск истины. Обязательно «наличие в нем главного героя – сыщика-детектива (как правило, частного), который раскрывает ( detects ) преступление. Главное содержание детектива составляет, таким образом, поиск истины. А именно понятие истины претерпело в начале ХХ века ряд изменений» [12].
Множественность версий следствия является аналогом идеи ансамблевости [14], являющейся важной особенностью чеховской драматургии. В то же время, вводя фигуру сыщика, характерную для классического детектива, Акунин, возможно, не преследуя данной цели, осуществляет эксперимент с жанрами. Именно фигура Дорна, выходящая на первый план, указывает на то, что в «Чайке» Акунина происходит возвращение от новой драмы с ее ансамблевостью к классической, одноге-ройной драме.
«Чайка» Акунина состоит из двух действий, первое из которых начинается словами из четвертого действия «Чайки» Чехова. Акунин активно использует воз- можности претекста, выстраивая детективный сюжет. На самом деле произведение Акунина – это не столько продолжение чеховской «Чайки», сколько один из вариантов финала исходного текста, предложенный Акуниным. Пожалуй, это и является одной из самых важных революционных тенденций, появлению которых способствуют возможности вторичных текстов. Современный автор вступает в диалог с автором канонического текста, спорит с ним и предлагает другой финал известного всем произведения. Благодаря изменению финала произведение приобретает совершенно иную идейную направленность и, используя семантические валентности претекста, превращается из драмы, в основе которой лежит конфликт между художником и обществом, в детективную историю.
У. Эко в комментарии к своему известному роману «Имя розы» рассуждает об особенностях постмодернистского детектива и видит его главное отличие от традиционного детектива в том, что для традиционного детектива важен факт установления истины, а для постмодернистского детектива важна «история догадки»: «…<постмодернистский> детектив любят за другое. За то, что его сюжет – это всегда история догадки… Любая история следствия и догадки открывает нам что-то такое, что мы и раньше «как бы знали» (псевдохайдеггерианская отсылка). Этим объясняется, почему у меня основной вопрос (кто убийца?) раздроблен на множество других вопросов, каждый со своей догадкой, – и все они в сущности являются вопросами о структуре догадки как таковой» [18, с. 54].
Во втором действии «Чайки» Акунина мы как раз и наблюдаем эту «раздробленность на множество вопросов»: второе действие пьесы разбито на восемь «дублей», каждый из которых «проигрывает» одну из возможных версий убийства Константина Треплева. Здесь, безусловно, присутствуют и черты, характерные для традиционного детектива: функцию сыщика выполняет Дорн, который первым говорит о том, что самоубийство главного героя есть вовсе не самоубийство, и предлагает «проработать» каждую из версий. Семантические возможности чеховского текста крайне широки, и благодаря ему выясняется, что мотивы для убийства Константина были у каждого из героев чеховского текста.
Говоря о «Чайке» Акунина как о постмодернистском произведении, следует также отметить, что в основе постмодернистского текста лежит игра. Как одну из наиболее важных черт постмодернистской эстетики В. П. Ру днев называет отказ от серьезности и всеобщий плюрализм. В. Б. Катаев в отношении «Чайки» Акунина пишет, что «иных целей, кроме игровых, автор, кажется, не преследует» [6, с. 121], что кажется не совсем точным, хотя проявление игры в тексте Акунина мы наблюдаем уже в самом начале: трансформированная ремарка исходного произведения становится началом текста Акунина. В кабинете Треплева появляются новые предметы: «Повсюду – и на шкафу, и на полках, и просто на полу – стоят чучела зверей и птиц: вороны, барсуки, зайцы, кошки, собаки и т.п. На самом видном месте, словно бы во главе всей этой рати – чучело большой чайки с растопыренными крыльями» [1]. Образ чайки в комедии Акунина подвергается ироническому переосмыслению, и не случайно автор помещает в кабинет Треплева чучело чайки. В чеховском тексте упоминание о чучеле чайки возникает только в диалоге Шамраева и Тригорина в конце произведения и предвосхищает ремарку: «Направо за сценой выстрел; все вздрагивают» [16, с. 61].
Одной из версий, которая в итоге и становится, на наш взгляд, «отгадкой», является версия о том, что убийцей Треплева оказывается сам Дорн, инициирующий данное расследование. Большинство исследователей склоняется к тому, что Акунин вовлекает читателя в постмодернистскую игру и ни один из дублей его вер- сии «Чайки» не является развязкой. Признание финального дубля развязкой позволяет рассматривать «Чайку» Акунина именно как «текст-продолжение». Акунин, по сути, эксплицирует то, что заложено уже в «Чайке» Чехова. На то, что именно эта версия более всех подходит для того, чтобы быть «отгадкой», указывает, во-первых, формальный признак – восьмой дубль находится в конце пьесы, в «сильной» позиции текста. В той же логике решает вопрос об убийстве Константина Треплева Л. Димитров: «В конечном счете, последнее решающее самопризнание приводит к тому, что убийца – именно сам он, Дорн» [5, с. 47].
Во-вторых, данная версия представляет собой характерный для классического детектива пуант: тот, кто является инициатором следствия и ведет расследование, оказывается убийцей. Мотив Дорна преподан иронически (но от этого он не перестает быть мотивом для убийства): врач убивает Константина из-за того, что тот увлекался охотой и был жесток по отношению к животным, а сам Дорн, как оказалось, является секретарем губернского Общества защиты животных. Убийство раскрыто, Дорн признается и произносит слова: «Я отомстил за тебя, бедная чайка!» [1], – а в финальной ремарке отмечено, что стеклянные глаза чучела чайки загораются огоньками и раздается ее крик. Этот крик оказывается как бы свидетельством самой убитой, и эта дополнительная улика есть только в дубле, в котором убийцей оказывается Дорн. Все остальные герои, несмотря на то что у каждого из них есть и мотив для убийства, и признание вины, подобного «доказательства» лишены.
Открытый финал чеховского произведения провоцирует на то, чтобы «дописать» его комедию, тем более что сам Чехов упоминал в письме к А.С. Суворину: «Начал её forte и кончил pianissimo – вопреки всем правилам драматического искусства. Вышла повесть. Я более недоволен, чем доволен…» [15, с. 53].
Таким образом, продолжение чеховской «Чайки», написанное Акуниным, является одновременно и альтернативной версией чеховского текста. «Чайка» Акунина совмещает в себе черты как традиционного детектива (наличие фигуры следователя и установление истины в финале), так и постмодернистского, для которого характерны развитие сюжета как развитие истории «догадки», авторская ирония и игра по отношению к каноническому тексту. Кроме того, пьеса Акунина представляет собой эксперимент с жанрами новой и классической драмы. Перекличка ситуаций, имеющих отношение к разным героям («гетероперсональная эквивалентность» [17, с. 134]), позволяет воспринимать «Чайку» Акунина как «текст-продолжение»: Дорн убивает Константина Треплева, осуществляя месть за убитую чайку.
Список литературы Комедия в двух действиях "Чайка" Б. Акунина как "текст-продолжение"
- Акунин Б. Чайка: Комедия в двух действиях. //Борис Акунин. Сочинения. Полное интерактивное собрание. URL: http://www.akunin. ru/knigi/prochee/chaika/. (Дата обращения: 23.08.2018.)
- Бахтин М. М. Проблема речевых жанров//Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 237-280.
- Вербицкая М. В. Теория вторичных текстов (на материале современного английского языка). М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. 220 с.
- Деррида Ж. Московские лекции. Свердловск: УрО АН СССР, 1991. 90 с.
- Димитров Л. Ловушка для чаек//Весь мир театр? Весь мир -литература! Б. Акунин глазами заинтересованных читателей. М.: Буки Веди, 2016. С. 39-51.
- Катаев В. Б. Игра в осколки: Судьба русской классики в эпоху постмодернизма. М.: Изд-во МГУ, 2002. 252 с.
- Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман//Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М.: Прогресс, 2000. С. 427-475.
- Майданова Л. М. Речевая интенция и типология вторичных текстов//Человек. Текст. Культура. Екатеринбург: Полиграфист, 1994. С. 81-104.
- Маньковская Н. Б. «Париж со змеями» (Введение в эстетику постмодернизма). М.: ИФРАН, 1994. 220 с.
- Петухова Е. Н. Трансформация «Чайки»//Весь мир театр? Весь мир -литература! Б. Акунин глазами заинтересованных читателей. М.: Буки Веди, 2016. C. 14-22.
- Пьге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 240 с.
- Руднев В. П. Словарь культуры XX века. М.: Аграф, 1997. 384 с.
- Савельева В. В. Чужое как своё: пересоздание чеховского текста и мира в «Чайке» Б. Акунина//Весь мир театр? Весь мир -литература! Б. Акунин глазами заинтересованных читателей. М.: Буки Веди, 2016. С. 29-39.
- Фадеева Н. И. Новаторство драматургии А. П. Чехова: пособие по спецкурсу. Тверь: Тверской гос. ун-т, 1991. 83 с.
- Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 6. М.: Наука, 1985. 735 с.
- Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 13. М.: Наука, 1986. 523 с.
- Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. 312 с.
- Эко У. Заметки на полях «Имени розы». М.: Corpus, Астрель, 2011. 160 c.