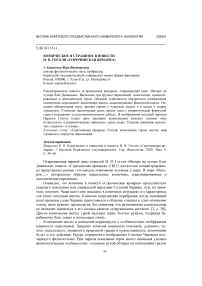Комическое и страшное в повести Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка»
Автор: Башкеева Вера Викторовна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается повесть «Сорочинская ярмарка», открывающая цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки». Выделены три группы персонажей: комические, идеализированные и демонические герои. Описаны особенности портретного изображения комических персонажей: комические жесты, акцентирование физиологичности. Показана обязательная связь данных героев с чувством страха и в целом с миром страшного. Уточнена генетическая связь немых сцен с романтической формулой«нем и недвижим» и пантомимическими tableau. В изображении молодой героини Параски Гоголь отдает дань традиции живописания женских головок «tete d’expression» и романтическому принципу «душа лица». Уделено внимание концептам «зеркало» и «танец».
«сорочинская ярмарка» гоголя, комические герои, жесты, мир страшного, портреты персонажей
Короткий адрес: https://sciup.org/148316622
IDR: 148316622 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Комическое и страшное в повести Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка»
Башкеева В. В. Комическое и страшное в повести Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. 2020. Вып 4. С. 40–46.
Открывающая первый цикл повестей Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» повесть «Сорочинская ярмарка» (1831) достаточно концентрированно представляет раннее гоголевское понимание человека и мира. В мире «Вечеров….» интересным образом переплелись комичные, идеализированные и демонические персонажи.
Очевидно, что комичны в повести «Сорочинская ярмарка» представители старшего поколения или социальной верхушки Солопий Черевик, кум, их приятели, попович. Чаще всего они показаны в комичных ситуациях и в характерных для таких ситуаций жестах. Комична супружеская перебранка, когда сказавший неосторожные слова Черевик приготовился к обороне, «закрыл в одно мгновение голову свою руками, предполагая, без сомнения, что разгневанная сожительница не замедлит вцепиться в его волосы своими супружескими когтями» [3, с. 30]. Другие комические жесты: герой надувает щеки, болтает руками, подражая барабанному бою, зевает и почесывает спину.
Комические жесты и поведение коррелируют с особенностями изображения внешности персонажей. Заведомо комична внешность поповича, длинного, худого, нескладного, лишенного природной грации и мужественности, комичными будут и его действия. Ракурс портретного изображения Солопия Черевика подчеркнуто физиологичен. При первом появлении героя много внимания уделено физиологическим особенностям: «ленивою рукой обтирал он катившийся градом пот со смуглого лица и даже капавший с длинных усов…» [3, с. 19]. «Пот лил градом» [3, с. 43] по лицу бежавшего в беспамятстве Черевика.
Такие жесты или особенности характерны для изображения человека из народа: физиологичные, с одной стороны, естественные, спонтанные, неритуальные и потому расширяющие репертуар литературных жестов – с другой.
Комичны предполагаемые жесты кума, когда он вместе с Солопием и всей честной компанией вваливается к затеявшей любовное свидание Хивре. Кум бахвалится, что сатане надо плюнуть на голову и сунуть дулю под нос. Затем, рассказывая историю красной свитки, предваряет начало комическими жестами почти эпического характера: «Тут он почесал плеча, утерся полою, положил обе руки на стол и начал» [3, с. 38]. В процессе, когда страх завладевает им, «пот выступил на лице», «отвечал кум, трясясь всем телом» [3, с. 40].
Страх – один из движителей не только сюжета, но и комики. Своеобразная квинтэссенция страха выражается именно с помощью комических поз и жестов во время немой сцены: «Ужас оковал всех находившихся в хате. Кум с разинутым ртом превратился в камень; глаза его выпучились, как будто хотели выстрелить; разверстые пальцы остались неподвижными на воздухе. Высокий храбрец в непобедимом страхе подскочил под потолок и ударился головою об перекладину; доски посунулись, и попович с громом и треском полетел на землю…» [3, с. 42]. От страха один гость будет, лежа на лавке, болтать руками и ногами, другой закрываться тулупом, третий задвигать за собой печную заслонку1.
Гоголевские немые сцены комического характера восходят, с одной стороны, к романтической формуле «нем и недвижим» [1, с. 74]. Она используется в том или ином виде и поздним Карамзиным, и ранним Жуковским, и, конечно же, Бестужевым-Марлинским. В них заметно заострение внимания на психологическом состоянии персонажа в затянувшемся, пролонгированном жесте.
В. А. Жуковский в романтической повести «Марьина роща» (1809) так, к примеру, описал всплеск чувств в Усладе: «Услад не мог отвечать ему ни слова; стоял, как убитый громом, и долго неподвижными очами смотрел на волны, в которых отражалось чистое небо». В повести А. А. Бестужева-Марлинского «Роман и Ольга» (1823) в ситуации сильного чувства «герой застывает как статуя, а жесты и действия его пролонгируются» [2, с. 190].
С другой стороны, в композиционном плане нельзя не отметить влияние пантомимических tableau. Они «эффектно завершали сильный эмоциональный эпизод, были обязательной принадлежностью мелодрамы и обычно представляли выразительную немую сцену пантомимического характера» [2, с. 194]. Своеобразной предтечей немых сцен у Гоголя стала сцена «Мнимая смерть Нордека» в повести Марлинского «Замок Нейгаузен» (1824), в которой показано групповое остановившееся движение: «С воплем опустился Отто в кресла и потерял чувства. Эмма вскочила, шатнулась и едва могла удержаться о распятие. Взоры ее померкли, голос замер, и голова скатилась на грудь».
Гоголю близка идея немоты как контраста слову, равно как и идея неподвижности, контрастной движению. Однако формула «нем и недвижим» настолько видоизменяется, что можно вести речь о новом ее качестве. Во-первых, она перестает быть двучленной, и немота не обязательно сопровождается неподвижностью – данные характеристики обретают относительную самостоятельность. Во-вторых – и это более важно, меняется качество восприятия и изображения неподвижности. Если в типовой романтической повести использование данной формулы было, скорее всего, особенностью повествования, подчас не выходящей в предметно-изобразительную сферу, то слово Гоголя отчетливо визуализировано и материально. Его столько же интересует эмоция героя, сколько и телесное оформление происходящего. Читатель становится свидетелем изменения, когда герой на мгновение или более окаменевает. Причем окаменевает пластически откровенно, в момент жестового демарша. Метаморфоза окаменения у Гоголя – это всегда остановленный жест либо иное движение героя, это всегда момент скульптурный. Подчас в этом движении нет физической устойчивости, оно может быть неудобно или даже должно быть неудобно, чтобы подчеркнуть силу переживаемой эмоции.
Становится очевидной связь комики со страхом. Тот, кто смешон, тот связан со страхом. Комичная, читай пестрая, безвкусная одежда Хиври соседствует с очень «неприятным» выражением лица, «столь диким, что каждый тотчас спешил перенести встревоженный взгляд свой на веселенькое личико дочери» [3, с. 20]. Тема дьявола не раз будет сопровождать Хиврю. Парубок Грицько назовет ее и дьяволом, и старой ведьмой – Хивря не останется в долгу, ругая его антихристом.
Колдовской мир имеет много представителей у Гоголя, дьявольщина связана не только с образом красной свитки или цыганом. Один из двух негоциантов, заинтересовавших Солопия разговором о пшенице, в «синей, местами уже с заплатами, свитке и с огромною шишкою на лбу» [3, с. 25] не просто осведомлен о проклятом месте, выбранном для ярмарки, и красной свитке, но и сам чудным образом связан с миром чертовщины. Не случайны его «угрюмые очи», искоса наведенные на собеседника.
Персонаж, который должен был бы изгонять нечисть, – попович также оказывается таинственным образом связан с нею. Застыв в попытке преодолеть забор, он похож на «длинное страшное привидение» [3, с. 33].
Вообще герои старшего возраста скорее связаны тем или иным образом с нечистью, чем не связаны с ней. Солопий Черевик всегда готов оказаться там, где начнет править бал чертовщина. То любопытство, то обстоятельства приводят его в тесный контакт с историей о нечистой силе. Он и сам, как негоциант или попович, оказывается связан с ней достаточно тесными, субстантными связями. «Тут память от него улетела, и он, как страшный жилец тесного гроба, остался нем и недвижим посреди дороги» [3, с. 43].
Не случайно Солопий и супруга своим страхом как будто притягивают нечисть. Отсюда их ночная встреча с цыганами, похожими на «дикое сонмище гномов, окруженных тяжелым подземным паром, в мраке непробудной ночи» [3, с. 44]. Есть определенная параллель с первой повестью цикла «Вечер накануне Ивана Купалы», в которой «проявления нечистой силы изображены как всеобщие. К ним причастны все – и живущие разбоем (набегами), и пьющие, и равнодушные к вере, и трусливые, и девушки, берущие подарки Басаврюка, и отцы, готовые отдать дочь за богатого, но ненавистного «ляха», и влюбленные, замышляющие самоубийство, и ряженные демонами на свадьбе» [4].
Более того, Солопий всегда готов отдаться на волю страха. Не однажды Гоголь опишет своего героя в состоянии страха: «волосы поднялись дыбом» [3, с. 27], «схвативши на голову горшок вместо шапки, бросился к дверям и как полоумный бе жал по улицам» [3, с. 42], «страх отнял ноги, и зубы колотились один об другой» [3, с. 46], «волосы его поднялись горою» [3, с. 47]. Страх является постоянным чувством, испытываемым им, и только дневная рассеянность, вовлеченность в бытовые или семейные процессы ретушируют этот страх. Страх перед бесовщиной, проделками черта, перед ночью и мраком является главным, ведущим чувством в жизни Солопия.
Отсюда страшное всегда рядом со смешным, а смешное со страшным. Но если комический жест связан с телесностью героя, то страх выражает его чувства, его душу, его потаенный взгляд на мир как на страшный мир. Смеховое поведение лишь маскирует гримасы ужаса, испытываемого комичными героями.
Отметим еще одну особенность Солопия Черевика. В будущем зяте его более всего восхищает способность важно дуть сивуху: «вытянул полкварты не поморщившись» [3, с. 29], восхищается он этим и не один раз. Это восхищение не взрослого человека, а подростка, который видит мир сквозь призму пока ему не доступных, «взрослых» подвигов. Подростковой является и реакция Солопия и кума на обвинение их в воровстве. Огорченные возведенной на них напраслиной, лежащие связанными под соломенною яткою, они вместо осмысления ситуации или, в крайнем случае, поиска выхода вдруг начинают голосить, почти как в песнях, о своей сиротской доле: «Горе нам, сиротам бедным!» [3, с. 49]. Жалость к себе – это детская реакция на злоключения мира.
Персонажи живут не разумом, а эмоциями, сиюминутными чувствами, под которыми громоздится вечный, неизбывный страх. Строго говоря, герои днем одни, ночью – другие. Можно говорить о двусоставном наполнении персонажей. При этом ночь настигает их и днем. В них нет постоянства ни личности, ни тем более характера. Даже постоянство поведения трудно ожидать от Солопия Черевика, который вначале дал согласие на свадьбу, а потом быстро – после наступления супруги – отозвал его.
Не случайно у Гоголя «народ срастается в одно огромное чудовище» [3, с. 23], и это не державинская мифологическая традиция показа многих как одного – великого, сильного, могучего великана, когда обычные россы становятся россом-великаном. Идеологичности державинской идеи у Гоголя противостоит физиологичность импрессионистического впечатления, внутренне исполненного страхом, на этот раз перед воображаемым чудовищем.
Кто же противопоставлен комичным героям? С одной стороны, веселая молодежь в лице Параски, Грицько Голопупенко и его товарищей, с другой стороны, цыганы как инородное племя.
Молодежь с точки зрения портретного изображения представлена несколько по-разному. У Грицько акцентированы две особенности: щеголеватый внешний вид и огненные очи. Белая свитка парубка становится постоянной портретной особенностью и выделяет его как достойного, обеспеченного молодого человека. На контрасте белой свитки Грицько и красной свитки черта строится главная живописная линия повести. Можно частично согласиться с исследователем, который считает белый цвет и самого персонажа носителем не доброго или идеального начала, а взаимозаменяющим, взаимодополняющим чертовщину [7]. Действительно, Грицько для достижения цели вступает в сговор с демонической силой – цыганами. И огненные, яркие его очи соотносятся с глазами цыгана -«живые, как огонь, глаза» [3, с. 32]. Очевидно, миновать нечистую силу в данной повести не может никто – ни Солопий, ни Грицько, настолько всеохватна эта сила.
В Параске акцент сделан на ее лице, или точнее – головке. Показаны ее круглое личико, черные брови, светлые карие глаза, розовые губки, особо выделены длинные косы, пучок полевых цветов, красные и синие ленты, которые «богатою короной покоились на ее очаровательной головке» [3, с. 19]. И главное – настроение, которым она проникнута: любопытство ко всему тому, что творится на ярмарке.
В таком изображении молодой героини Гоголь отдает дань традиции живописания женских головок «tete d’expression», которая была весьма популярна как в Италии, так и во Франции. В первые десятилетия XVIII в. Ж. А. Ватто, акцентируя в графических работах передачу тонких оттенков переживаний человека, сделал их популярными во Франции, а итальянский художник Пьетро Ротари в 50-е гг. того же столетия – в России. Последователи Ротари, в частности Ф. Рокотов, могли видеть в них «пример разнообразных, тонких, ускользающих интонаций» [5], характерных для искусства рококо, воплощение идеализированной натуры. По сути, это были не головки, а погрудное или поплечное изображение натурщиц. Женские головки стали настолько популярны, что отголосок этой традиции весьма активен в графике Пушкина и отчасти в работах Лермонтова.
Гоголевский интерес к жанру «tete d’expression» как рисованию особенностей внешности не исключал чисто романтического изображения лица как смены чувств и настроений. Акцент на жизни лица в его динамике, выражающей чувства героини, станет главным в финальном изображении Параски: «Много грез обвивалось около русой головы. Иногда вдруг легкая усмешка трогала ее алые губки и какое-то радостное чувство подымало темные ее брови, а иногда снова облако задумчивости опускало их на карие светлые очи» [3, с. 51]. Усмешка, радость, задумчивость в их смене друг другом выделяют жизнь души, когда чувство напрямую говорит за себя.
Не случайно чувство ведет Параску к тому, чтобы включиться в танец, держа в своей правой руке зеркало. Здесь важны и танец, и зеркало как важные для Гоголя концепты. Идея зеркала, отражения, любимая всеми романтиками, проводится писателем с самого начала повести, когда река показана как чистое зеркало неба и мира. Зеркало «открывало человеку, созерцающему “видимую”, внешнюю реальность, путь в символизируемый “отражением” мир духа, где разнообразие форм живого предметного мира, как предполагалось, обретает упорядоченность и осмысленность» [6]. Зеркало, с одной стороны, позволяло заглянуть в мир духа, с другой – являлось границей между неслиянными мирами.
Что же с зеркалом в руках Оксаны? Оно, во-первых, обклеено купленной ею красной бумагой, так близко напоминающей красную свитку, и тем самым впи- сывает героиню в чертовскую игру удачи и неудачи, ведь свитка не грозит смертью, но может принести несчастье и неудачу. Именно за удачей гоняются все гоголевские негоцианты - как выгоднее продать товар, как не продешевить на ярмарке. Во-вторых, в зеркале отражаются отнюдь не небеса или иные духовные сущности, а потолок с досками, с которых не так давно низринулся попович. Повествователь весело подтрунивает над красавицей, когда предлагает свою бытовую интерпретацию отражения в зеркале.
И все же есть ли зазеркалье, то, которое напоминает об ином человеке и человечестве? Идея отражения завораживает Параску, вспомним, как она была увлечена роскошью вида «голубой прекрасной бездны» реки, в которой все «стояло и ходило вверх ногами» [3, с. 21]. Вид себя в зеркале вызывает у нее тайное удовольствие, героиня любуется собой и через это любование притягивает свою счастливую судьбу. Самодовольство красоты, самопризнание, самолюбование - вот то Зазеркалье, которое дарит героине полноту ощущения неизведанного бытия.
Не случайно ее тянет на танец как форму наиболее полного выражения своих чувств и радости жизни. Танец становится символической формой признания любви к жизни, ощущения полноты и осмысленности момента. В танце зазеркалье обретает конкретику физического движения, и на время восстанавливается искомая целостность. Интересно, что к такому танцу причастны все персонажи повести, и прежде всего Солопий Черевик, который также не смог устоять перед стихией танца.
Но есть еще финальный танец, в котором искомая целостность рождается как будто для всех: «от одного удара смычком музыканта, в сермяжной свитке, с длинным закрученными усами, все обратилось, волею и неволею, к единству и перешло к согласию» [3, с. 54]. Отметим, не все стремились к согласию, кое-кто неволею подключился к общей энергии «детской радости» [3, с. 54], танца, жизни. Кроме того, момент согласия краток и субъективен, так как колдовская сила проникла и сюда. Ветхие хмельные старушки, разрушающие воцарившуюся гармонию, связаны с чертом - от лиц их «веяло равнодушием могилы». Они напоминают Гоголю «безжизненные автоматы», кукол без желаний, интересов и какого бы то ни было человеческого сочувствия. Даже в согласии танца невозможно убежать от страха.
И поэтому цыганы как главные представители колдовской силы играют центральную роль в движении повести к развязке. Именно они в поисках выгоды, своей удачи, затевают театральную постановку с красной свиткой. Именно их воля, сплоченность, настойчивость в достижении цели и, что важно, внутренняя взрослость, своеобразная ответственность обеспечивают благополучную развязку - свадьбу. Та сила, которая является страшной, приносит удачу комичным и некомичным персонажам.
Инфернальная сила таким образом обнаруживает новое свое качество - невольное принесение блага, при этом понятие выгоды перестает быть только материальным. Отказ от выгоды приносит Грицько удачу и осуществление планов. И отсюда аберрации страха являются не только объективным качеством пугающего мира и субъективным видением невзрослых, нецельных героев-детей, но и частью более сложной организации не изведанного пока мира.
Список литературы Комическое и страшное в повести Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка»
- Башкеева В. В. Образ молчания в романтическую эпоху (к вопросу об исторической семантике) // Семантика слова, образа, текста: сб. науч. ст. Северодвинск: Изд-во Помор. гос. ун-та, 1998. С. 73-76.
- Башкеева В. В. От живописного портрета к литературному: Русская поэзия и проза конца XVIII - первой трети XIX века. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1999. 260 с.3.
- Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 7 т. М., 1983. Т. 1. 479 с.
- Денисов В. Д. Первая повесть Гоголя: исторический и литературный контекст // Вестник СПбГУ. Язык и литература. 2008 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pervaya-povest-gogolya-istoricheskiy-i-literaturnyy-kontekst (дата обращения: 21.10.2020).
- Доронченков И. Становление русской живописи: портрет XVIII века [Электронный ресурс]. URL: https://arzamas.academy/materials/1468 (дата обращения: 23.10.2020).
- Кардаш Е.В. Тайна "танцующих старушек": "зеркала" и "автоматы" в романтической литературе и "Сорочинская ярмарка" Гоголя [Электронный ресурс]. URL: http://old.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=2X0nrLwIf8U%3D&tabid=9921 (дата обращения: 21.10.2020).
- Левкиевская Е. Е. "Белая свитка" и "красная свитка" в "Сорочинской ярмарке" Н. В. Гоголя // Признаковое пространство культуры. М., 2002. С. 400-412 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/e-e-levkievskaya-belaya-svitka-i-krasnaya-svitka-v-sorochinskoy-yarmarke-n-v-gogolya (дата обращения: 23.10.2020).