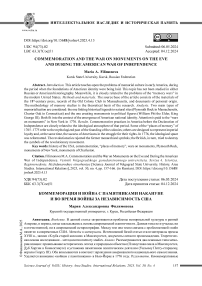Коммеморация и война с памятниками накануне и во время Войны за независимость США
Автор: Филимонова М.А.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Интеллектуальное наследие и историческая память
Статья в выпуске: 4 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. В данной статье затрагиваются проблемы мемориальной культуры в ранней Америке, в период, когда закладывались основы американской идентичности. Данная тема не изучалась ни в отечественной, ни в американской историографии. Между тем она тесно связана с проблематикой «войн памяти» в современных США. Методы и материалы. Источниковой базой статьи стали материалы прессы XVIII в., записи «Клуба старой колонии» в Массачусетсе, документы личного происхождения. Теоретическая основа исследования – методология memory studies. Анализ. Рассматриваются два основных типа мемориализации: привязывание исторических легенд к природным объектам (Плимутская скала в Массачусетсе, Дуб Хартии в Коннектикуте) и установка памятников политическим деятелям (Уильяму Питту-старшему, королю Георгу III). Оба вписываются в контекст зарождения американского национального самосознания. Уделяется внимание «войнам с памятниками» в Нью-Йорке в 1776 году. Результаты. Коммеморативныепрактики в Америке перед провозглашением независимости тесно связаны с идеологической атмосферой этого периода. Одни из «мест памяти» 1765–1775 гг. отсылают к мифологизированному прошлому основания колоний, другие призваны репрезентировать имперскую лояльность и одновременно успехи американцев в борьбе за свои права. В 1776 г. происходит переформатирование идеологического пространства. Революционеры отторгают прежние монархические символы, англичане, в свою очередь, стараются уничтожить символы революционного движения.
История США, коммеморация, «места памяти», войны с памятниками, Плимутская скала, памятники Нью-Йорка, памятники Чарльстона
Короткий адрес: https://sciup.org/149149145
IDR: 149149145 | УДК: 94(73).02 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.4.13
Текст научной статьи Коммеморация и война с памятниками накануне и во время Войны за независимость США
DOI:
Цитирование. Филимонова М. А. Коммеморация и война с памятниками накануне и во время Войны за независимость США // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регио-новедение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 4. – С. 157–166. – DOI: jvolsu4.2025.4.13
Введение. Исследователи историографии memory studies говорят о «третьей волне» этого историографического направления, которая сейчас переживает расцвет. Это связано как с активизацией исторической политики в современных государствах, в том числе в США, так и с той важностью, которую приобрела историческая память в современном мире.
Тема memory studies в применении к событиям новой истории, включая Американскую революцию XVIII в., представляется актуальной также в научном отношении. Изучение исторической политики американских вигов (самоназвание революционеров накануне и во время Войны за независимость США) позволяет раскрыть некоторые аспекты формирования национальной идентичности в США.
Мемориальная культура накануне и во время Войны за независимость США не была предметом исследования ни в американской, ни в отечественной историографии. Отсюда цель данной статьи – проанализировать коммеморативные практики в Америке в 1765– 1776 гг., в период активного протестного движения и его перерастания в Американскую революцию.
Задачи исследования: рассмотреть «места памяти» природного происхождения (Плимутская скала, Дуб Хартии) и их роль в становлении региональной идентичности; проанализировать календарные ритуалы, связанные с памятью об основателях Нового Плимута («отцах-пилигримах»); изучить формы и функции монументальной пропаганды рассматриваемого периода и ее роль в саморепрезента-ции американцев; исследовать «войну с памятниками» в Нью-Йорке в 1776 году.
Методы и материалы. В статье использованы методологические подходы memory studies, что обусловлено спецификой объекта изучения. В данном случае не был применим распространенный государствоцентричный подход, в рамках которого государство рассматривается как обладающее монополией на формирование политики памяти. Этому препятствуют особенности коммеморативных практик ранней Америки. В предреволюционной и революционной ситуации, в условиях возросшей активности широких масс населения группы активистов формировали собственные концепции коммеморации. Отсюда необходимость прибегнуть в исследовании к социально-акторному подходу, который предполагает множественность субъектов, по-разному интерпретирующих прошлое и создающих собственные «места памяти».
Еще основатель школы «Анналов» Люсьен Февр пришел к выводу, что «человек не помнит прошлого – он постоянно воссоздает его» [13, с. 21]. С тех пор механизмы формирования и трансляции исторической памяти не раз привлекали внимание исследователей, как и изучение исторической политики, «политики памяти».
Я. Ассман различал коллективную память, отраженную в ритуалах и памятниках, и коммуникативную память, функционирующую в живом общении индивидов. А. Ассман добавила к этому понятие «политической памяти», которая конструируется в определенных политических целях [18]. Л.П. Репина, в свою очередь, пишет об «официальной» памяти, которая становится объектом манипуляции со стороны властей [11, с. 87]. Историческая память определяется ею как совокуп- ность донаучных, научных, квазинаучных и вненаучных знаний и массовых представлений социума об общем прошлом [10, с. 12, 23].
Французский исследователь Пьер Нора создал ставшую классической концепцию «мест памяти», в качестве которых могут выступать определенные объекты, жесты, образы, а также ритуалы, годовщины, праздники [9].
Также теоретической основой данного исследования стала теория коммеморации. А. Мегилл определяет коммеморацию как феномен, возникающий из желания общества подтверждать чувство собственного единства и общности через разделяемое отношение к репрезентации прошлых событий [7, с. 16]. Большую роль в создании коммемораций играют ритуалы, праздники. Еще Э. Дюркгейм писал о коллективных коммеморативных (репрезентативных) ритуалах, благодаря которым группа сохраняет свою солидарность [4, с. 612– 621]. Я. Ассман подчеркивает, что в праздничном, «чудесном» времени горизонт расширяется до времени творения [2, с. 60]. Это наблюдение хорошо описывает некоторые культурные феномены ранней Америки, в частности ритуалы «Клуба старой колонии».
Необходимо отметить при этом, что историческая политика, политика памяти как понятие шире, чем только коммеморация. Например, А.И. Миллер и Г. Касьянов включают в понятие политики памяти как собственно коммеморацию, так и регулирование исторических исследований через ограничение доступа к архивам, поощрение определенной тематики для изучения и аналогичные практики [8, с. 13–15]. Последние были невозможны в США XVIII в., где государство находилось в процессе становления. А вот коммеморативная политика существовала.
Проблемам исторической и мемориальной политики посвящена монография И.И. Ку-риллы «Битва за прошлое». Исследователь рассматривает возможность использования прошлого как орудия перехвата политической повестки [5, с. 76–80, 82–85]. Концепция И.И. Куриллы подтверждается на материале Америки XVIII века.
Источниковую базу исследования составили различные типы документов. Одним из важнейших послужила американская и английская пресса изучаемого периода, в частности такие издания, как «South Carolina Gazette» (Чарльстон), «Maryland Gazette» (Аннаполис), «Dunlap and Claypoole’s American Daily Advertiser» (Филадельфия) и др. Весьма информативными оказались записи «Клуба старой колонии» (Records of the Old Colony Club), содержащие сведения о культе «отцов-пилигримов» в 1770-х годах. Использованы также документы личного происхождения, такие как дневники, мемуары, эпистолярика.
Мемориальная культура ранней Америки почти не привлекала внимания исследователей. В 1998 г. вышла монография Дж. Сили, посвященная Плимутской скале [34]. Автор исследования проследил превращение места высадки «отцов-пилигримов» из символа свободы в символ белой исключительности. Есть также интересная статья Марка Сарджента о ранней истории Плимутской скалы [33].
Интереснейшая тема памятников Уильяму Питту-старшему в Нью-Йорке и Чарльстоне не была предметом специального исследования, равно как и коннектикутская легенда о Дубе Хартии.
Анализ. Американская революция стала важнейшей вехой в становлении национальной идентичности американцев. Не случайно политическая группировка, благодаря которой была создана современная Конституция США, называла себя «националистами».
Для просветителей национальная идентичность не есть нечто, существующее от природы. Американские революционеры склонны были разделить эту точку зрения. В их представлении создание американской нации лишь началось и было длительным процессом, требующим сознательных и целенаправленных усилий. Пропагандист Т. Пейн заявлял: «Единство Америки – краеугольный камень ее независимости». Политик и дипломат Г. Моррис надеялся, что следующее поколение уже будет «расой американцев». Ту же надежду питал и выдающийся лексикограф Н. Уэбстер [23, p. 76; 26, vol. 2, p. 142; 29, p. 204].
Подобно другим социальным группам, находящимся на стадии формирования собственной идентичности, американские революционеры-виги нуждались в «местах памяти».
Разумеется, американцы колониального периода прибегали к апроприации британских «мест памяти», что подтверждается личны- ми историями «отцов-основателей» США. Так, пенсильванец Дж. Дикинсон, автор первой Конституции США («Статей Конфедерации»), будучи в Лондоне, «со страхом и почтением» созерцал Палату общин, где Дж. Гэмпден «противостоял посягательствам власти» [16, p. 257]. Пенсильванский врач и просветитель Б. Раш в той же Палате общин просил указать ему место, где стоял У. Питт-старший, произнося свою речь против Акта о гербовом сборе. Раш сознавался: «Я был готов расцеловать самые стены, которые отозвались эхом на его голос в тот знаменательный день» [31, p. 68–69]. Но одновременно формировались и представления о собственно американской истории, отличной от общебританской.
Традиционные для Европы памятники из камня и бронзы появились в будущих США лишь в конце колониального периода. Использование статуй в коммеморативных практиках затруднялось отсутствием в колониях квалифицированных скульпторов и необходимых материалов. Соответственно, первые объекты коммеморации в Северной Америке были природного происхождения.
Наиболее известный из них сохранился до наших дней. Это так называемая Плимутская скала в современном Массачусетсе. По преданию, именно на этот гранитный валун ступили в 1620 г. пассажиры судна «Мэй-флауэр», известные в американской истории как «отцы-пилигримы».
Аутентичность Плимутской скалы представляется сомнительной. Большинство современных исследователей считают, что ее история скорее легендарная (см., например: [20, p. 176; 32, p. 29–30]).
Во второй половине 1760-х гг. вокруг «отцов-пилигримов» сложился особый нарратив героики и свободолюбия. Они, таким образом, выступали для американских революционеров-вигов конституирующим Другим, в сравнении с которым они выстраивали собственный образ как наследников и продолжателей их борьбы за свободу.
В новом идеологическом контексте оказалась востребованной ассоциировавшаяся с Плимутской скалой «антеическая магия» (термин А. Ассман [1, с. 243]) – особое впечатление от аутентичности, приписываемой месту, где происходили знаковые события. Хирург Дж. Тэтчер, участник Войны за независимость США, остался под глубоким впечатлением от созерцания Плимутской скалы. В своем дневнике он писал: «Кажется, что (на Плимутской скале. – М. Ф.) мы беседуем с небесными духами и получаем наставления от тех, кто покоится в своих могилах» [35, p. 27]. Много позже те же ощущения пережил и известный французский политик А. де Токвиль [12, с. 47, сн. 8].
Действительно, Плимутская скала превратилась в важнейший культурный и политический символ. В 1774 г. городское собрание Плимута постановило посвятить ее «храму свободы» [32, p. 32]. В соответствии с постановлением Плимутскую скалу попытались переместить в центр города [34, p. 23]. И все же сдвинуть огромный валун не удалось: он раскололся [36, p. 202]. Плимутцы удовлетворились тем, что забрали с первоначального места верхнюю часть скалы. На ней, как на пьедестале, установили столп свободы [32, p. 32].
Одновременно с культом Плимутской скалы складывался комплекс ритуализован-ных действий, отмечавший день высадки «отцов-пилигримов» (22 декабря).
В 1769 г. семеро потомков пассажиров «Мэйфлауэр» основали «Клуб старой колонии». В честь годовщины высадки «пилигримов» клуб ежегодно устраивал торжественный обед. Участники должны были одеться максимально просто, в подражание суровым пуританам. На стол подавали лишь те блюда, которые могли быть в меню основателей Нового Плимута [30, p. 400]. Особенно востребованными в этот день были блюда из моллюсков, которые в обыденном сознании XVIII в. ассоциировались с аскетической жизнью «пилигримов» (см., например: [17, vol. 3, p. 113]).
Это был тот тип коммеморации, который Алейда Ассман называла «периодическим воспоминанием». С ее точки зрения, функция таких годовщин троякая: она создает возможность партиципации; она позволяет осуществить «Мы-инсценирование» и подкрепить групповую идентичность; она дает импульс дальнейшей рефлексии [1, с. 252–255]. Все три проявляются в случае с «Клубом старой колонии».
Следует оговорить, что «Клуб старой колонии» не был на самом деле революционным. Более половины его членов в дальней- шем стали лоялистами (сторонниками подчинения Британской короне) [30, p. 441; 33, p. 254]. Тем не менее американские виги приняли годовщину с энтузиазмом [17, vol. 2, p. 394–395].
После Войны за независимость, в 1790-х гг. правившая в США партия федералистов ап-роприировала плимутскую историю. 22 декабря 1798 г. бостонские федералисты устроили «пиршество раковин» (Feast of Shells) [20, p. 179–183; 34, p. 43]. Название отсылало одновременно к тем легендарным моллюскам, которыми питались «пилигримы», и к фейклор-ной кельтской древности, сконструированной шотландцем Дж. Макферсоном. В его «Поэмах Оссиана» встречаются упоминания о «пире раковин» [6, с. 285]. Реальные современники Оссиана (Ойсина), жившего в III в., не пили вино из морских раковин, но в XVIII в. многие считали произведения Макферсона аутентичным гэльским эпосом. Бостонское «пиршество раковин», таким образом, было сложной аллюзией. Оно отражало претензии его организаторов на региональную новоанглийскую самобытность и на более глубокие европейские корни.
В каком-то смысле аналогичным «местом памяти» был коннектикутский Дуб Хартии. Подобно Плимутской скале, он служил топосом исторического мифа, утверждавшего региональную идентичность.
Легендарная история Дуба Хартии относится к 1687 г., когда король Яков II решил взять Новую Англию под контроль. Самоуправление новоанглийских колоний ликвидировалось. В числе прочих отмене подлежала хартия Коннектикута, обеспечивавшая значительный объем прав колонистов. Ставленник Якова II, Э. Андрос, потребовал отдать ему документ. Ассамблея Коннектикута отказалась это сделать. По легенде, во время их спора вдруг погасли все свечи, и в последовавшем замешательстве хартия исчезла. Она была скрыта в дупле большого белого дуба, где ее было не найти ни королю, ни Андросу.
Трудно сказать, когда сложилась легенда о Дубе Хартии. Бесспорно лишь то, что во время революции белый дуб стал символом штата Коннектикут.
Культ Дуба Хартии достиг апогея в XIX века. Пресса Коннектикута воспевала его как «Мекку патриотических паломников» [24]. Однако до наших дней он не сохранился. В 1856 г. знаменитый дуб погиб во время бури. Его проводили, как национального героя, под звуки военного оркестра и звон всех городских колоколов [21, p. 211–212].
На примере Дуба Хартии хорошо видно то, что Пьер Нора называл коммерческим измерением прошлого. Упавшие ветви, желуди, а затем и сам дуб стали неисчерпаемым источником сувениров.
Первый образец монументальной скульптуры, воздвигнутый по инициативе колонии Массачусетс, находится не в Америке, а в Великобритании, в Вестминстерском аббатстве. Его назначением было служить общеимперским «местом памяти». Он посвящен памяти виконта Джорджа Хоу, воевавшего в Америке во время Семилетней войны и погибшего в стычке с французами.
В 1765–1766 гг., в контексте кризиса, связанного с гербовым сбором, у американцев появился новый объект культа. Колонисты высоко оценили выступления Уильяма Питта-старшего в защиту прав колоний. Уже в 1766 г. колониальные газеты писали, будто в каждой колонии Северной Америки должны быть воздвигнуты статуи в его честь [37]. Реализовать соответствующий замысел удалось только в двух американских городах: Чарльстоне и Нью-Йорке.
Южнокаролинская ассамблея в 1766 г. приняла решение поставить статую Питта в центре Чарльстона. Скульптура была заказана англичанину Дж. Уилтону. Еще до прибытия статуи в Чарльстон южнокаролинские газеты высоко ее оценивали. Уточнялись два момента: что за статую уплачено 1 000 ф. ст. из колониальной казны и что нью-йоркский Питт «заметно уступает нашему в размере» [44].
Питт был изображен в тоге, в позе римского оратора, но в пудреном парике XVIII в. – характерный для той эпохи антикизированный образ. Надпись на памятнике констатировала благодарность южнокаролинцев великому коммонеру: «Время не раньше уничтожит этот знак их почтения, чем сотрет из их памяти заслуженную признательность к его патриотической добродетели» [43].
Когда статуя была выгружена с корабля и закреплена на телеге, чарльстонцы потащи- ли телегу к арсеналу, где она должна была храниться, пока не готов пьедестал. Горожане готовы были нести статую на руках [45].
Статуя Питта стала центром притяжения для горожан и местом проведения политических церемоний. Так, в 1774 г. у ног Питта была устроена сцена с изображениями папы римского и дьявола; там подвижные фигуры кланялись униженным лоялистам [19].
Во многом сходной была история создания нью-йоркского памятника Питту-старшему, но здесь были и уникальные особенности. Инициатива исходила от горожан. В июне 1766 г. фримены (свободные горожане) и фригольдеры (свободные землевладельцы) Нью-Йорка приняли резолюцию о создании бронзовой статуи Питта [41]. Колониальная ассамблея поддержала это решение, но с некоторыми поправками: было решено прежде всего воздвигнуть конную статую короля. И лишь затем говорилось о том, что следует создать памятник Питту в благодарность за его вклад в отмену гербового сбора [41].
Кроме Нью-Йорка, по некоторым данным, памятник Георгу III намеревались воздвигнуть в Виргинии [38], но этот замысел не реализовался.
Оба нью-йоркских памятника были выполнены тем же Уилтоном. Статуя короля была представлена по образцу конной статуи Марка Аврелия в Риме. Газеты отмечали: «Эта прекрасная статуя сделана из металла и богато позолочена» [40].
Памятник Питту во многом напоминал южнокаролинский: он также был мраморным и также отсылал к идеализированной античности. Мраморный (а не бронзовый, как предполагалось) Питт стоял в позе оратора, протянув вперед левую руку. В правой руке он держал Великую хартию вольностей. Табличка объясняла, что статуя воздвигнута как свидетельство благодарности колонии Нью-Йорк за позицию Питта в кризисе гербового сбора [42].
В августе 1770 г. конная статуя короля была установлена на Боулинг-Грин. Городская элита и офицеры гарнизона присутствовали на устроенном губернатором по этому случаю ужине. Пили за здоровье королевской семьи, были орудийный салют и оркестр [40].
Если церемония открытия статуи монарха была элитарной, то установка памятника
Питту привлекла рядовых ньюйоркцев. «Pennsylvania Gazette» писала: «Статуя достопочтенного Уильяма Питта, графа Чэтема, установлена на приготовленный для нее пьедестал на Уолл-стрит под одобрительные возгласы большого числа горожан» [42].
Во время Войны за независимость оба нью-йоркских памятника стали жертвами политического иконоклазма, причем с противоположных сторон. «Война с памятниками» в то время не была чем-то новым для Нью-Йорка. На протяжении нескольких лет в городе продолжался конфликт вокруг столпа свободы, служившего своего рода стихийным мемориалом в честь отмены гербового сбора. Английские солдаты несколько раз разрушали столп свободы, американские виги его восстанавливали [14].
В 1776 г. иконоклазму подверглась статуя Георга III. После провозглашения независимости толпа явилась в Боулинг-Грин с веревками, чтобы низвергнуть позолоченного «тирана». Барабаны выбивали ритм «Марша мошенника», обычно исполнявшегося при наказании лоялистов. Кто-то из присутствовавших цитировал слова Мильтона о Люцифере: «Ты ль предо мною? О, как низко пал!» [28] Часть обломков лоялисты укрыли в качестве реликвий; отрубленная голова статуи была отослана в Англию лорду Тауншенду, которого считали ответственным за враждебные колониям законодательные инициативы. Большая же часть материала была перелита на пули для Континентальной армии, которой командовал Дж. Вашингтон. По подсчетам современников, вышло 42 088 пуль [25, p. 52–54].
Комментарий популярной газеты «Dunlap and Claypoole’s American Daily Advertiser» был одобрительным по отношению к иконокластическому акту: «Конная статуя Георга III, которую торийская спесь и торийский каприз (тори – другое название лоялистов в период Войны за независимость. – М. Ф. ) воздвигли в 1770 году, была сброшена в грязь сынами свободы – достойная судьба для неблагодарного тирана!» [22].
Видимо, осенью того же года, когда Нью-Йорк был оккупирован англичанами, они отомстили за разрушенную статую короля. Английские солдаты обезглавили статую Питта и отрубили ему руки в отместку за защиту колонистов. Скульптура с отрубленной головой и руками ныне хранится в Нью-Йоркском историческом обществе. В 2022 г. она была центром тематической выставки как свидетельство глубоких корней современных «войн памяти» [47].
Чарльстонская статуя Питта, видимо, не подвергалась намеренному разрушению, но дошла до наших дней в вандализированном виде – память об английской бомбардировке Чарльстона в 1780 году.
Современники по-разному реагировали на происходившую «войну с памятниками». Свержение с пьедестала и обезглавливание памятника Георгу III, как уже упоминалось, встретило полное одобрение американских вигов. Ван-дализация памятника Питту в Нью-Йорке прошла незамеченной. Американские газеты не осветили этот сюжет, возможно, в силу недостатка информации. С осени 1776 г. и до окончания войны Нью-Йорк находился под английской оккупацией, и связи между городом и остальной территорией США были прерваны.
После окончания Войны за независимость разрушение обоих памятников воспринималось уже иначе. В одной из первых американских комедий («Контраст» Р. Тайлера, 1787 г.) простодушный герой реагировал на символическое «цареубийство» в Нью-Йорке как на нечто ушедшее в прошлое. Он передавал свои впечатления от города: «Пошел я поглазеть на двух мраморных людей... Пришел я туда, а у одного (то есть у статуи Питта. – М. Ф. ) не было головы, а другого (то есть статуи Георга III. – М. Ф. ) вовсе не было. Говорили, будто свинцовый человек (то есть Георг III. – М. Ф. ) был проклятым тори и будто он разозлился да уехал во время смуты» [46, p. 56]. Здесь в рамках метафоры памятник Георгу III уподоблялся реальным тори, во множестве своем эмигрировавшим из США.
Иной была реакция одной из первых американских феминисток Джудит Сарджент. Она приписывала действия и американцев, и англичан по разрушению статуй «готской злобе» [39, vol. 19, p. 1627]. Видимо, это аллюзия к разграблению Рима вестготами в 410 году.
Результаты. Современные исследователи исторической памяти подчеркивают ее тесную связь с коллективной идентичностью. «Места памяти» кануна Войны за независи- мость США тесно связаны с поисками собственно американской саморепрезентации, пока еще в рамках империи.
Воздвижение памятников – один из традиционных мемориализирующих актов в европейской культуре. Однако в колониальной Америке соответствующая практика появилась довольно поздно. Интересно также, что все памятники, которые были воздвигнуты по инициативе американцев в 1763–1775 гг., относились к актуальным для них и современных им событиям. Здесь наблюдается совершенно иная традиция, нежели в случае с природными объектами, превращенными в «места памяти»: и Плимутская скала, и Дуб Хартии отсылали к событиям мифологизированного прошлого. Если воспользоваться классификацией М.Л. Шуб, то вторые можно отнести к символам наследия, а первые – к символам героя [15, с. 167].
Памятник Георгу III призван был транслировать месседж лояльности империи. Статуи Питта в Нью-Йорке и Чарльстоне были репрезентацией победоносной борьбы за свои права. В период Войны за независимость возникали проекты глорификации ее героев. Стоит упомянуть постановление Конгресса об установке конного памятника Дж. Вашингтону, принятое в 1783 г. [27, vol. 24, p. 494]. Однако это решение оставалось на бумаге до 1860 г. из-за нехватки финансирования.
Часть коммеморативных практик колониальной Америки не отражала уже существовавшую идентичность, а способствовала формированию новой. В новом идеологическом контексте история «сбереженной свободы» Коннектикута, история преодоления трудностей во имя свободы «отцов-пилигримов» были крайне востребованы. Важно, что именно в это время шло активное формирование новой американской национальной идентичности, когда сами американцы искали для себя ответ на вопрос писателя М.Г.Ж. Кревкера: «Кто же тогда есть американец, сей новый человек?» [3, с. 560]. Ответ формулировался через идеологию, общий опыт антиколониальной борьбы и истолкованную в том же ключе общую историю.
Как это обычно и бывает в периоды революций, развернулась символическая борьба за «места памяти». Иконоклазм был час- тью символической политики как американцев, так и англичан на протяжении Войны за независимость США.