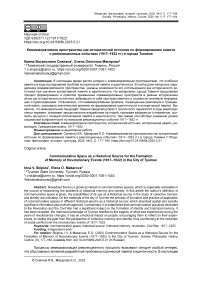Коммеморативное пространство как исторический источник по формированию памяти о революционных событиях (1917–1922 гг.) в городе Тюмени
Автор: Скипина И.В., Макарова Е.О.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
В настоящее время растет интерес к коммеморативным пространствам, что особенно заметно в ходе исследования проблем исторической памяти и идентичности. В статье дано авторское определение коммеморативного пространства, указаны возможности его использования как исторического источника при изучении коллективной памяти и идентичности. На материалах города Тюмени представлен процесс формирования и практики применения коммеморативных пространств в разные исторические эпохи как исторического источника, вобравшего в себя пространственную и социально-значимую информацию о происходившем. Установлено, что коммеморативные практики, посвященные революции и Гражданской войне, оказывали значительное влияние на формирование идентичности и исторической памяти. Выявлено, что мемориальный ландшафт Тюмени свидетельствует о трагичности пережитого в годы революционных перемен, оказывает эмоциональное воздействие на людей, призывая задуматься о пережитом, осознать прошлое с позиций коллективной памяти и идентичности, тем самым способствуя снижению уровня социальной конфликтности по вопросам революционных событий 1917–1922 гг.
Коммеморативное пространство, исторический источник, историческая память, революция, Гражданская война, 1917–1922
Короткий адрес: https://sciup.org/149147963
IDR: 149147963 | УДК: 930(571.12)“1917/1922” | DOI: 10.24158/fik.2025.5.21
Текст научной статьи Коммеморативное пространство как исторический источник по формированию памяти о революционных событиях (1917–1922 гг.) в городе Тюмени
время вслед за антропологическим и культурным поворотом прослеживается и пространственный, направленный на изучение «мест памяти», их содержательных, метальных черт и особенностей, а также возможностей использования в социальной практике . Впервые о роли пространства как неотделимого от времени заявил Н. Бердяев: «Этот мир во внешнем восприятии является в пространстве и времени, а во внутренней душевной жизни только во времени, потому что пространство не является формой, являющейся душевной действительностью» (Бердяев, 1969: 80–81).
Определения коммеморативного пространства в современной литературе не сложилось, но мы отмечаем необходимость его дальнейшего анализа. Согласно П. Бурдье, пространство в историко-теоретическом смысле – это не только синоним территории, но и помещенная в определенные рамки социальная реальность, а также практики, направленные на сохранение или изменение содержания данного пространства. Ученый был убежден, что оно конструируется людьми через практики, осуществляемые в повседневной жизни, отражает их социальную позицию и может проявляться в самых разнообразных контекстах (Бурдье, 1993: 36).
Анализируя специфику мемориальных пространств Лейф Джеррали видит их ориентированными и на настоящее, и на будущее, способными отражать и объяснять опыт пережитого. По мнению исследователя, данные пространства выходят за рамки материальности, обладают «неподатливостью» и «упрямством», хотя и способствуют формированию коллективного восприятия прошлого. Ученый считает, что мемориальное «пространство более долговечно, более устойчиво, больше похоже на “вторую натуру”, чем просто экран, на который можно проецировать смысл даже спустя много сотен лет» (Jerram, 2013: 414).
Интерес представляет определение исторического пространства, данное Н.Е. Яценко, который считает, что это «сложная динамичная совокупность географических, экологических, этнических, социальных факторов развития человека и общества в различные исторические эпохи»1.
Мы понимаем коммеморативное пространство как часть исторического, являющегося источником о значимых событиях и личностях, обеспечивающего связи настоящего с прошлым через разнообразные коммеморативные практики, способствующие формированию исторической памяти и идентичности. Современные исследователи усматривают взаимосвязь пространства, места и идентичности, подчеркивая, что эти факторы являются основными при формировании исторической памяти.
Под коммеморацией ученые понимают «самые различные феномены – от поминовения как такового до празднично-мемориальных церемоний» (Зубанова, Шуб, 2022: 51). Г.А. Бордюгов считает, что «пространство памяти использовалось и используется для адресной, фокусированной актуализации прошлого, для нужд настоящего» (Бордюгов, 2010: 10). Т. Шерлок (Шерлок, 2014), В.П. Булдаков (Булдаков, 2008) и Г. Горнова (Горнова, 2017) единодушны в том, что коммеморативные действия отражают коллективную память, способствуя формированию идентичности. В.Г. Рыженко (Рыженко, 2010), Н.Е. Копосов (Копосов, 2011) подчеркивают роль институциональных структур в организации массовых мероприятий, действующих в направлении формирования официальной государственной памяти о революционном прошлом. Е.И. Красильникова, О.А. Громова считают, что мемориальные пространства сибирских городов усиливают эмоциональное воздействие комммеморативных практик (Красильникова, Громова, 2021).
Несмотря на значительное количество работ, посвященных революции и Гражданской войне, историческая память об этом событии характеризуется противоречивостью, эмоциональностью и нуждается в дальнейшем изучении (Вальдман, Красильникова, 2021).
-
Е .И. Красильникова подчеркивает, что политический культ Гражданской войны был сформирован в советское время, сегодня он исчерпал себя, поэтому в настоящее время «актуально сделать акцент на признании трагедии войны» (Красильникова, 2018: 73)
О.Ю. Малинова отмечает: «В то же время новый раунд дискуссий о коллективном прошлом открывает определенные окна возможностей для сторонников “проработки трудного прошлого”» (Малинова, 2016: 155).
Цель статьи – установить возможности коммеморативного пространства города Тюмени, посвященного революционным событиям 1917–1922 гг., как источника по формированию коллективной памяти и идентичности. Коммеморативное пространство города рассматривается как форма трансляции исторической памяти и способ ее формирования.
Основой настоящей публикации является теория исторической памяти и идентичности, изложенная трудах П. Нора (Проблематика мест памяти …, 1999), М. Хальбвакса (Хальбвакс, 2007) и А. Ассмана (Ассман, 2016). В процессе исследования использовались методы историзма, системно-структурного анализа и микроанализа. При подготовке статьи использованы источники разных видов, в том числе нормативные документы, материалы делопроизводства государственных органов и общественных организаций, вещественные и эго-источники.
Мы опираемся на следующее определение исторического источника – это «объективированный результат творческой активности человека/продукт культуры, используемый для изуче-ния/понимания человека, общества, культуры как в коэкзистенциальной, так и исторической составляющей» (Румянцева, 2010: 18).
Формирование коммеморативного пространства, посвященного советской эпохе, началось уже в ходе революционных событий. Новая реальность создавалась путем отречения от прошлого, сопровождалась конструированием иных пространств, создающих впечатление светлого будущего. В это же время стал формироваться и коммеморативный ландшафт советской Тюмени. Установление в городе пролетарской власти ознаменовалось прославлением подвига большевиков, возведением памятников и мемориальных знаков борцам, отдавшим жизнь за народное дело. Инициатива мемориализации революционных побед исходила в большинстве случаев от общественности, но неизменно поддерживалась властями. К этому времени советская традиция захоронения красноармейцев только складывалась, поэтому отличалась на разных территориях. Так, один из организаторов похорон красноармейцев, погибших в боях с белыми в Петуховской волости Тобольской (Тюменской) губернии, предложил организовать церемонию следующим образом: спеть гимн, сделать ограду и поставить крест, что и было сделано1. Захоронения проводили при большом скоплении людей, место для братских могил отводили в центре поселений. Власти стремились использовать эти события для пропаганды и агитации за победу большевистского дела, заявляли, что без жертв достичь результата не представлялось возможным (Скипина, 2005).
Памятным событием в Тюмени стало захоронение 5 июля 1918 г. павших в боях с белогвардейцами бойцов Красной армии. Погибших привезли со станции Вагай, по одним данным, там было 46, а по другим – 48 тел красноармейцев. Власти приняли решение о погребении героев в братской могиле с воинскими почестями в центре города в Александровском саду. Современники вспоминали, что похоронная процессия растянулась от вокзала до места погребения. Уже 9 июля 1918 г. сад переименовали, назвав Садом Октябрьской революции. Похороны проходили также 15, 17 и 18 июля – красноармейцев хоронили несколько дней.
Участник революционных событий в Тюмени П.А. Россомахин вспоминало тех событиях: «17 июля Тюменская социалистическая Красная армия проводила в последний поход своих лучших бойцов… Их проводили все рабочие организации Тюмени: это лучший залог, что дело павших – дело трудящихся, что пустующие места погибших товарищей тотчас же будут заполнены новыми бойцами. Убитых товарищей до неузнаваемости избили прикладами, искололи штыками… На спинах вырезали скверные ругательства…»2 По данным А.А. Кононенко, позднее, с приходом к власти А. Колчака, в ночь на 8 мая 1919 г., находившаяся в саду могила была разрыта, а останки красноармейцев перевезены на кладбище (Кононенко, 2015: 206).
Позже на памятнике появились сведения о более поздних захоронениях, о чем свидетельствовали имена красноармейцев, погибших в годы крестьянского восстания 1921 г. В 1920-е гг. сад получил название «Сад им. Карла Маркса». В 1921 г. здесь даже установили его бюст, но в конце 1920-х гг. убрали. В начале 1920-х гг. на братской могиле был установлен деревянный памятник в виде колонны, увенчанной буденовкой с красной звездой. Колонна через несколько лет была заменена деревянным обелиском.
Созданный ландшафт использовался для проведения митингов, демонстраций, праздничных и поминальных дней. Особую роль в формировании коммеморативного пространства играли государственные праздники и торжества. В советской России, начиная с 1918 г., ежегодно 7 ноября отмечали годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.
К этому времени в городе уже сформировались первые локации, посвященные данному событию, их центром в Тюмени являлась улица Республики, по которой проходила демонстрация трудящихся и военный парад. Управленцы, организуя мероприятия, руководствовались указаниям центральных властей. В городе создавали комиссию по подготовке к Дню 7 ноября, привлекали к работе по проведению мероприятий рабочих, интеллигенцию, школьников, учителей, представителей общественности. Сценарий торжеств власти разъясняли в инструкциях, которые касались как руководителей организаций, так и населения. Мероприятие открывали митингом, на котором выступали управленцы, партийные лидеры, передовики производства, герои войны и труда. Для выступавших требовалось «устроить арки, обвитые гирляндами, а на арках устроить гербы… Серп и молот, колоски, лоскут, прикрепленный на доску с красным флагом, за серпом и молотом, восходящее солнце с лучами»3.
Инструкция определяла время начала праздника – 10 часов утра и саму процедуру его проведения. В документе говорилось, что празднование должен открыть оратор, находящийся на трибуне, после этого шествие продвигается по улице к месту памяти борцов революции, и можно постепенно расходится по домам. Открывали парад военнослужащие, представители партийных и советских организаций, комсомола, за ними шли рабочие местных предприятий и служащие, замыкали парад школьники. При этом явка на демонстрацию для всех, будь то школьник или рабочий, была строго обязательной.
По традиции памятник погибшим за дело революции украшали транспарантами, свидетельствующими о проявлении скорби в связи с многочисленными утратами в годы Гражданской войны. Участники парада, проходя рядом с местом памяти, пели революционные песни, выкрикивали лозунги о верности пролетарскому делу и сохранении вечной памяти о павших борцах революции. В этот день по всей стране демонстранты провозглашали лозунг: «Вечная память борцам за Октябрьскую Революцию». Местная газета в 1925 г. писала, что участники двигались «стройными рядами по улице Республики… Тихо прошли около братских могил, с опущенными знаменами…»1.
Особенно широко страна отмечала юбилейные даты. В 1927 г. праздник проходил в течение 2 дней, после этого даты 7 и 8 ноября стали нерабочими.
Активизировалась и краеведческая работа, направленная на сбор материалов о героях революционной борьбы, но под воздействием решений властей, направленных на сворачивание исследовательской деятельности на местах, сбор материалов к концу 1920-х гг. о героях революционного времени прекратился. Единые требования по проведению праздничных мероприятий распространялись и на детей, участвующих в мероприятиях. Учащиеся готовились к торжествам заранее, они рисовали поздравительные открытки, делали бумажные цветы, шили красные флаги, посещали мемориальные места. Школьные занятия заканчивались 6 ноября сразу после орудийного выстрела в 12 часов, а на следующий день дети участвовали в праздничном шествии.
К советским праздникам город украшали. Для придания улицам торжественного вида жителям рекомендовали вывешивать красные флаги, иногда городская администрация выдавала тюменцам конфискованные у зажиточных граждан ковры для украшения балконов домов, включалось уличное освещение, выступали все артисты города и даже церковный хор, который пел революционные песни2. Уличное освещение обеспечивали электрические лампочки. Обязательным элементом торжеств являлись концерты и спектакли, проходившие в городских домах культуры и на центральных площадях, в них участвовали все творческие коллективы города. Для артистов это было обязательным. Так, например, одна их артисток тюменского театра отказалась от участия в концерте и была наказана за «прогул». Губернский ревком на своем заседании рассмотрел этот факт и потребовал от руководителя театра в «принудительном порядке» призвать артистку к исполнению трудовой дисциплины, предупредив, что при повторном неучастии в праздничных мероприятиях, ее отправят на пять дней «на общественные работы»3.
В год 10-летия революции в 1927 г. памятный знак в саду, посвященный борцам революции, обновили, он стал представлять собой столб с буденовкой наверху, который сохранялся как минимум до начала 1930-х гг.
В первые десятилетия диктатуры пролетариата в Тюмени также с особым размахом отмечали День освобождения города от Колчака 8 августа 1919 г. Такой праздник проводили и на других территориях в даты, соответствовавшие изгнанию белогвардейцев и установлению большевистской власти. Этот праздник собирал большое количество горожан, сопровождался шествием, пением революционных песен, театрализованными представлениями. Участники обязательно посещали памятные места, связанные с именами героев революции и Гражданской войны, давали клятвы верности революционному делу.
Формирование коммеморативного пространства сопровождалось переименованием улиц и городских площадей, которые получали новые названия4. Одна часть их них была названа в честь участника революционного движения и Гражданской войны – А. Семакова, геройски проявившего себя в борьбе с врагом на территории края, другая – получила имя видных организаторов революционного движения. В числе последних были В. Ленин, Я. Свердлов, К. Маркс и другие.
Всесоюзная комиссия при ЦИК СССР по охране исторических памятников Гражданской войны и Красной армии в июне 1934 г. предложила приступить к выявлению всех материалов и документов «павших и умерших от ран героев Гражданской войны»5 с целью создания в последующем памятников ее участникам. Исторические факты рекомендовалось выявлять в архивах, а также устанавливать у самих участников Гражданской войны. В документе говорилось, что тюменцы мало «знают о своих героях», приведен пример неосведомленности горожан о биографии
Героя Гражданской войны А.В. Семакова: «Но спросите сейчас любого товарища в Тюмени: а кто был тов. Семаков, его биографию, при каких обстоятельствах он погиб – исчерпывающего ответа не получишь»1.
Власти быстро вносили изменения в название улиц, площадей, давали им имена героев революции и Гражданской войны, заменяя их дореволюционные названия на советские. Таким образом, большевистские власти формировали новое мемориальное пространство, отражающее победы в революции и Гражданской войне, потребовавших многочисленных жертв во имя светлого будущего, имена которых нельзя забыть. Созданный мемориальный ландшафт использовался для проведения митингов, демонстраций, праздничных и поминальных дней.
Репрессивная политика 1930-х гг., сказалась и на коммеморативных практиках. Торжества по поводу революционных праздников в 1930-е гг. стали в основном связывать с успехами в деле социалистического строительства и с именем И. Сталина.
Празднование памятных дат в годы Великой Отечественной войны организовывали скромно, без пафоса. Основные торжества проходили в здании горсовета; приходилось экономить, город украшали в основном флагами, демонстрации стали менее многолюдными, рабочие предпочитали в этот день трудиться, чтобы помочь фронту. Территория мемориального пространства, посвященная борцам революции, потеряла былую привлекательность, что обуславливалось изменением ситуации в стране, репрессиями против многих оставшихся в живых участников революционной борьбы.
К этому времени связь пролетарского братства ослабла, многие были на фронте, современники событий 1917–1922 гг. даже в памятные даты общались мало, стараясь не привлекать к себе внимания. Судя по воспоминаниям участника революционных событий Г.П. Пермякова, люди стали меньше встречаться с бывшими товарищами по борьбе, боясь последствий и доно-сов2. Даже в день 7 ноября место встреч у памятника борцам революции на улице Республики города Тюмени оставалось немноголюдным, хотя многие участники революционных боев были еще живы. Тюменцы были недовольны сложившимся положением, но открыто не выступали и ждали перемен к лучшему.
Первый Тюменский областной съезд культпросветработников, состоявшийся 13 декабря 1949 г., принял решение привести в ближайшее время в надлежащий порядок все исторические памятники на территории области и обеспечить в дальнейшем полную их сохранность3. Постепенно размах праздничных торжеств восстанавливался, свидетельствуя о неизменности государственного курса на дальнейшее социалистическое строительство. Говоря о послевоенном времени, Е. Красильникова отмечала: «Героический газетный нарратив, как и праздничная риторика в целом, не допускал обращения к темам жертв, ошибок и трудностей. Праздничная пропаганда внушала населению новое понимание значения “завоеваний Октября”, благодаря которым советский народ выстоял в войне» (Красильникова, 2017: 149).
Положение изменилось после разоблачения культа личности И. Сталина возрождались объединения ветеранов, вновь появился интерес к эпохе революционного времени, управленцы стали организовывать встречи участников революционной борьбы с общественностью, поездки по местам боев. В праздничные дни ветеранов приглашали выступить с воспоминаниями о пережитом перед молодежью. Выяснилось, что многие участники революционных событий были обделены вниманием, а поездки, организованные в преддверии 40-летия Октября по местам былых сражений, показали, что места захоронений героев Гражданской войны нередко были заброшены.
Газета «Тюменская правда» писала о Дне 7 ноября 1957 г. как о радостном празднике: «В это ноябрьское утро город проснулся, радуя глаз праздничным убранством улиц. Кумачевые флаги и полотнища, шелестя по ветру, точно приветствовали наступающее торжество. И всюду были лаконичные цифры – 1917–1957. За ними вставала величественная история нашего социалистического государства»4.
Судя по их воспоминаниям, которые были собраны в 1960-е гг., ветераны не жалели о том, что были активными участниками борьбы за светлое будущее. Многие писали, что, несмотря на трудности, это были самые счастливые годы в их жизни. Вместе с тем видный участник Гражданской войны в крае, Г. Пермяков, признал, в этой борьбе было «немало случайного, переходящего, как в любом явлении, которое не может быть непогрешимым»5. Он писал, что много думал о тех, кто без имени и числа отдал жизнь за дело освобождения человечества. В середине 1960-х гг. Г. Пермяков сообщил одному из друзей, что прежние заслуги в повседневной его жизни не играют какой-либо роли: «Я такой, только пенсионер, а что значат заслуги прошлого? Люди живут настоящим и будущим»1.
В юбилейные даты мемориальный ландшафт значительно преображался и обновлялся. В канун 50-летия революции скульптурную композицию крестьянина и вооруженного рабочего со знаменем в руках, являвшуюся центром места революционной памяти, заново отлили из чугуна на Тюменском заводе строительных машин. В таком виде мемориал существует и в настоящее время. Надпись на его пьедестале гласит: «Памятник павшим борцам за революцию от трудящихся Тюмени: люди революционного времени были искренне убеждены в своей правоте и преданы большевистским идеалам до конца жизни».
«Оттепель» значительно повлияла на интерес к революционному прошлому, возродив веру в скорую победу коммунизма, что проявилось и в коммеморативных практиках, уважительном отношении к героям революционной борьбы.
В праздники демонстранты традиционно проходили мимо монумента: «Впереди – ветераны. Люди, которые участвовали в революции, помогали устанавливать советскую власть. Торжественно звучит в их устах старая революционная песня “Смело, товарищи, в ногу”»2.
В юбилейном 1967 г. пространство расположения монумента назвали площадью Борцов революции.
В 1970–1980-е гг. произошло заметное падение интереса к событиям и участникам революционной эпохи, что проявилось, прежде всего, в сокращении мероприятий, проводимых общественностью на площади Борцов революции. Память о жертвах революционной борьбы уступила место воспоминаниям о героях Великой Отечественной войны. Даже в день 7 ноября в коммеморативных действиях превалировали призывы к активному строительству развитого социализма и коммунизма, трудовые коллективы демонстрировали свои достижения, затмевая дань памяти борцов за дело трудового пролетариата. Ветераны революционной эпохи уходили из жизни, их стало меньше в рядах демонстрантов, однако участники праздника продолжали произносить лозунги о верности пролетарскому делу.
«Тюменская правда» писала о многочисленной демонстрации тюменцев в день празднования 60-летия Октября, подчеркивая особую торжественность праздника: «Вот и пришел этот долгожданный день – славный юбилей Великого Октября. День, с которого шесть десятилетий назад начала свой отсчет новая эпоха победившей революции»3.
Власти продолжали тщательно следить за состоянием главной мемориальной площади Тюмени – в 1984 г. монумент отреставрировали, был заменен постамент, его отделали благородно-темным лабрадоритом. Скульптуру развернули лицами к улице.
1987 г. стал последним годом, когда день 7 ноября отпраздновали с размахом. Постепенно интерес к мемориальному пространству, посвященному революционному периоду, снизился, даже маршрут демонстрантов в Тюмени изменился: не всегда сохраняя стройность рядов, они стали двигаться мимо памятника к центральной площади, где и проходил торжественный митинг.
6 ноября 1991 г. деятельность КПСС была запрещена, и демонстрация трудящихся в Тюмени впервые за много лет не состоялась. В этот день к населению Тюмени обратились местные власти, общественники, земляки, которые вспоминали участников революции и Гражданской войны, прежде всего, как соотечественников, призывая к тому, чтобы 7 ноября стало «днем гражданского согласия и памяти всех погибших в кровавой схватке. И красные, и белые – это наши русские люди, любившие Россию, желавшие ей счастья, представления о котором у них было разным. И нет в том их вины. Так не будем приговаривать ни тех, ни других. Память не должна быть злой»4.
Формирование мемориального ландшафта продолжалось и в постсоветское время. В 2001 г. напротив скульптуры борцам революции был воздвигнут мемориальный знак в память о жертвах политических репрессий. В их числе были и те, кто сражался в рядах большевиков во время революции и Гражданской войны и был без оснований репрессирован в 1937–1938 годах.
Мемориальный ландшафт Тюмени ярко свидетельствует о сложностях советского периода, заставляя пришедших задуматься о пережитом, понимая его с позиции коллективной памяти, тем самым способствуя снижению уровня конфликтности в обществе по вопросам революционных событий 1917–1922 гг.
«Мемориальный бум» и «войны с памятниками», развернувшиеся на постсоветском пространстве, стали фактором, стимулирующим интерес к нарративам, способным явиться катализатором формирования исторической памяти и идентичности. Локации, посвященные советскому прошлому, сегодня переживают трансформации, обусловленные современными оценками многих исторических событий. Они продолжают использоваться институциональными и общественными структурами, являются местом разнообразных коммеморативных практик. С одной стороны, они способствуют эмоциональному и активному восприятию прошлого, а с другой – являются свидетельством стабильности, преемственности и незыблемости исторической памяти и идентичности. Курс на «примирение и согласие», который сегодня является основной линией в современных коммеморативных практиках, не исключает дискуссий по вопросам нашего общего «трудного прошлого».