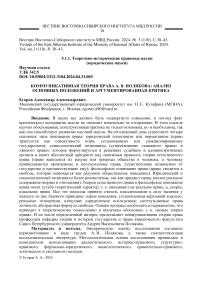Коммуникативная теория права А.В. Полякова: анализ основных положений и аргументированная критика
Автор: Егоров А.А.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Теоретико-исторические правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 3 (110), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. В науке все должно быть подвергнуто сомнению, и потому факт критического восприятия мысли не означает изначально ее отторжение. В этом смысле научно обоснованная, конструктивная критика не только возможна, но и необходима, так как она способствует развитию научной мысли. На сегодняшний день существует четыре основных типа понимания права: юридический позитивизм или нормативизм (право трактуется как совокупность норм, установленных или санкционированных государством); социологический позитивизм (существование «книжного права» и «живого права», которое формулируется в решениях судебных и административных органов и имеет абсолютный приоритет над «книжным правом»); теории естественного права (право выводится из разума или природы общества и человека, а человеку приписываются врожденные и неотъемлемые права, существующие независимо от государства и предшествующие ему); философское понимание права (право сводится к свободе, которая понимается как разумное общественное поведение). Юридический и социологический позитивизм более реалистичны, так как придают праву вполне реальное содержание (нормы и отношения). Теории естественного права и философское понимание права носят сугубо теоретический характер, т.е. описывают не реальное право, а скорее идеальное право. Все эти подходы принято считать классическими в силу наличия у каждого из них базового принципа: норма поведения, установленная верховной властью; реальные отношения, влекущие юридические последствия; неотчуждаемые права личности; абстрактная формула свободы. Однако прогресс необходим и перманентен, что приводит к теоретическому осмыслению и попыткам обосновать т.н. «новые теории права». В их числе определенный интерес представляет коммуникативная теория права профессора кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Санкт-Петербургского университета Андрея Васильевича Полякова.
Право, государство, социальная коммуникация, правовой текст, эйдос права, правовые ценности, психическое принуждение, физическое принуждение, правосознание
Короткий адрес: https://sciup.org/143183553
IDR: 143183553 | УДК: 342.5 | DOI: 10.55001/2312-3184.2024.84.31.003
Текст научной статьи Коммуникативная теория права А.В. Полякова: анализ основных положений и аргументированная критика
Правовая наука развивается во всем мире, активно издается юридическая литература, и каждый автор стремится ее чем-то обогатить. Не вызывает сомнения, что приращение научного знания, расширение научных горизонтов познания и понимания права обусловлены общественным прогрессом и необходимы для каждого социума и всего мирового сообщества в целом. В этом смысле появление «новых теорий права» можно квалифицировать как признание исключительного интеллектуального и научного потенциала отечественных правоведов. Данное обоснование весьма привлекательно, в его монопольный характер хочется беззаветно верить. Однако объективное и скрупулезное изучение положений «новых теорий права» порождает серьезные сомнения в том, что их авторам удалось раскрыть какие-то новые грани теоретико-мировоззренческого, политико-правового и социокультурного понимания права. Достаточно часто в научной юридической среде высказывается точка зрения, согласно которой в новых теориях права нет ничего принципиально значимого или авторского, а их суть сводится к компиляции и терминологической переработке постулатов классических типов понимания права.
«На деле большинство нетрадиционных (неклассических) подходов к пониманию права оказывается разновидностью вполне традиционных социолого-позитивистских представлений о праве, изложенных в терминах какой-либо постмодернистской философской парадигмы», – пишет Н. В. Варламова [1, с. 89]. По мнению О. В. Мартышина, эти «самопровозглашенные теории» (наподобие самопровозглашенных государств) заняли место в юридической литературе только благодаря отсутствию принципиальной критики и дискуссий, т. е. благодаря равнодушию и безучастности специалистов [2, с. 282]. Действительно, эта тенденция сегодня имеет место быть. Большинство исследователей отчетливо осознают (даже если не произносят это вслух), что в современных условиях нередко имеют место как безуспешные, так и успешные попытки с помощью словесной эквилибристики выдать классические постулаты за принципиально новые идеи. Своего рода популистская публикационная активность отдельных авторов зачастую обусловлена готовностью ряда изданий опубликовать любой текст. Вместе с тем аргументированная критика является экзистенциальным элементом любой науки, который уберегает ее от деградации и забвения. В этой связи представляется возможным и даже необходимым на основе современных методов научного познания проанализировать и критически переосмыслить основные постулаты коммуникативной теории права А. В. Полякова.
В апреле 2002 года в рамках расширенного заседания кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Санкт-Петербургского университета состоялось обсуждение курса лекций А. В. Полякова «Общая теория права», в котором была изложена суть его «коммуникативной концепции». В своем вступительном слове А. В. Поляков акцентировал внимание слушателей на двух основополагающих моментах: развитие правовой теории предопределяет необходимость обоснования новых вариантов понимания права; основой для создания им курса стала проблема обоснования «собственного видения права» [3, с. 13, с. 6]. Новаторский характер теории А. В. Полякова вызывает сомнения уже на том основании, что сам автор считал ее одним из важных вариантов интегрального правопонимания [4, с. 9]. Тем не менее в адрес автора прозвучало немало хвалебных оценок.
Д. И. Луковская и Е. В. Тимошина безапелляционно идентифицируют коммуникативную теорию права как наиболее разработанный вариант интегрального правопонимания [5, с. 6]. М. А. Капустина назвала коммуникативную концепцию А. В. Полякова вполне аргументированным вариантом интегрального типа правопонимания [3, с. 45]. Еще более патетическую позицию занял И. Л. Честнов, который во время обсуждения курса лекций заявил, что «блестящий знаток российской правовой мысли А. В. Поляков на наших глазах (с точки зрения стороннего наблюдателя) превратился в одного из крупнейших теоретиков права, предложившего свою оригинальную версию онтологии права…» [3, с. 58]. Не полемизируя ни с кем из указанных авторов и не принижая заслуг А. В. Полякова, закономерно зададимся вопросом: в чем проявляется оригинальность автора, где смелый прорыв, позволяющий говорить о том, что ему удалось разработать авторскую теорию права, не имеющую аналогов ни в прошлом, ни в настоящем? Начнем с авторского определения понятия права.
А. В. Поляков пишет: «…право как тотальная и синергийная интерсубъективная социокультурная реальность рассматривается в коммуникативно-деятельном, ценностном, семиотическом и психологических аспектах и, соответственно, онтологически интерпретируется и феноменологически описывается как многоединство, включающее в себя как нормы, так и правоотношения, как ценности, так и правосознание, как правовые тексты, так и деятельность по их интерпретации и претворению в жизнь» (курсив мой – А. Е.) [6, с. 6–7]. Форма и содержание данной дефиниции заслуживают пристального внимания. На основе использования исторического метода (в данном случае изучение доктринальной мысли в контексте ее временного развития) вкупе с логическим методом (применение аналогии с подходами других исследователей) представляется возможным оценить новизну и научную ценность этой авторской дефиниции.
Внимательный анализ части определения, выделенной курсивом, вольно или невольно отсылает нас к позиции известного отечественного правоведа Г. В. Мальцева, который еще в 1989 году писал: «Право … есть совокупность норм, идей и отношений, которая устанавливает поддерживаемый средствами власти порядок организации, контроля и защиты человеческого поведения» [7, с. 7]. Данное традиционное интегративное понимание права как норм, идей и отношений даже в то время не могло претендовать на новизну. То обстоятельство, что Г. В. Мальцев связывал эту совокупность норм, идей и отношений с государственной властью, объясняется тем, что он находился под влиянием доктрины советского нормативизма. Кроме того, вызывает недоумение и требует пояснения понимание права как тотальной реальности.
Закон тождества, применяемый в формальной логике и заключающийся в том, что всякое суждение влечет (имплицирует) само себя, позволяет сделать вывод, что право является единственным социальным регулятором в обществе. Это обстоятельство порождает логическую ошибку, так как наряду с правом общественные отношения регулируются обычаями, моралью, религией и иными социальными нормами. В этом контексте данный постулат А. В. Полякова при его буквальном истолковании (с учетом отсутствия авторских пояснений) представляет собой ярко выраженный теоретический недостаток.
В свою очередь понимание права как многоединства в контексте системноструктурного метода (изучение государственно-правовых явлений как цельной системы и иерархической структуры) свидетельствует о теоретическом изъяне, характерном для всех вариантов интегрального понимания права. Речь идет о том, что любой вариант интегрального понимания права строится на сочетаниях отдельных положений классических типов понимания права, что неизбежно порождает коллизии и даже антагонизмы. В данном случае уместно вспомнить такой прием формальной логики, как сходство и аналогия, которые позволяют выявить указанные изъяны. Наконец, еще одним недостатком дефиниции А. В. Полякова следует признать включение в нее ценностей как самостоятельной категории наряду с правосознанием. Обратимся к позиции самого автора.
-
А. В. Поляков, используя приемы сходства и аналогии, отмечает, что право является культурной ценностью, делая при этом оговорку, что иерархическое место права в системе социальных ценностей в разных обществах принципиально отличается: в одних обществах право – это высшая ценность, которая подчиняет себе все остальные социальные ценности (включая моральные и религиозные), а в других – оттесняется на второй план и играет вспомогательную роль [6, с. 314]. Таким образом, даже если признать ценности как самостоятельную категорию в рамках авторской дефиниции права, А. В. Полякову следовало бы указать, что место права в системе социальных ценностей в разных обществах неодинаково, что не позволяет сформулировать единого подхода.
Следовательно, на основе использования дедуктивного мышления мы можем предположить, что в лаконичном виде под правом А. В. Поляков понимает совокупность норм, идей и отношений, существующих и реализуемых в контексте социальной коммуникации. Однако в таком случае само указание на социальную коммуникацию является теоретическим недостатком, так как вне ее контекста ни один из перечисленных компонентов не может иметь ни теоретического, ни практического значения. Таким образом, дефиниция А. В. Полякова – это традиционное интегративное понимание права как норм, идей и отношений, отягощенное как нераскрытыми автором категориями (многоединство, тотальная реальность), так и неуместным включением ценностей как самостоятельной категории. Вряд ли это авторское определение может претендовать на новизну и научную ценность. В ходе упомянутого выше обсуждения курса лекций А. В. Поляков сформулировал ряд тезисов, которые раскрывают суть его теории. Сразу оговоримся, что исследование этих тезисов будет основано на сопоставлении с наработками классиков дореволюционной и советской теоретико-правовой мысли (которые по понятным причинам не могли оперировать современной терминологией, однако опосредованно выводили постулаты коммуникативной теории) вкупе с использованием современной методологии.
А. В. Поляков отмечает, что в условиях российского постмодерна развитие правовой теории требует обоснования новых вариантов понимания права, которые были бы принципиально отличны от «классических» образцов. При этом автор отмечает, что генезис отечественной дореволюционной правовой мысли и советской теоретикоправовой доктрины свидетельствуют о коммуникативной направленности правового дискурса в России [3, с. 13; 8, с. 8]. Оценивая этот тезис, мы можем отметить, что необходимость обоснования новых вариантов понимания права является объективной закономерностью в развитии политико-правовой мысли. Как уже было ранее отмечено, еще в 1989 году Г. В. Мальцев предложил классическое интегративное понимание права, отягощенное влиянием советского нормативизма. Даже в то время это не было открытием. Следовательно, на основе использования логических приемов сходства и аналогии можно прийти к выводу, что осознание необходимости комплексного понимания права не может быть авторским открытием А. В. Полякова. Более того, поиски интегративного понимания права были характерны для классиков дореволюционной политико-правовой мысли. Приведем некоторые тезисы, которые наглядно продемонстрируют наличие элементов философского понимания права в рамках классических типов понимания права.
Представитель отечественной естественно-правовой мысли А. П. Куницын (1783–1840), выражая идею, что праву одного человека соответствует обязанность другого человека, отмечал, что возможность защитить свои права продиктована законами разума и является прежде всего нравственной, а затем уже правовой [9, с. 154–155; 10, с. 14]. Классик нормативизма Г. Ф. Шершеневич (1863–1912) считал, что в случае придания нравственной норме юридической санкции, данная норма, оставаясь этической, становится одновременно и правовой (например, установление юридической ответственности для родителей, развращающих детей) [11, с. 70; 12, с. 20]. Как мы видим, понимание права как принудительного правила поведения, установленного государственной властью, не мешало Г. Ф. Шершеневичу мыслить в интегративном ключе. Известный представитель социологического понимания права С. А. Муромцев (1850–1910) трактовал право как совокупность юридических отношений, а нормы – как атрибуты этих отношений [13, с. 10]. Применяя современный методологический инструментарий, можно сделать вывод, что он четко осознавал необходимость комплексного понимания права в контексте коммуникации, хоть и прямо не сформулировал этот тезис.
Таким образом, на основе использования сравнительно-правового метода представляется возможным прийти к выводу, что в приведенных воззрениях наличествует осознание интегративной природы права. Более того, рассуждая в индуктивном ключе (от частного к общему), можно предположить, что элементы философского понимания права (А. П. Куницын и Г. Ф. Шершеневич) и комплексного понимания права (С. А. Муромцев) свидетельствуют о понимании ими коммуникативной природы права. Следующий тезис А. В. Полякова заключается в том, что право невозможно вне рамок социальной коммуникации. В свою очередь условием правогенеза выступает не возникновение государства, а формирование психосоциокультурных реалий коммуникативной направленности, в которых объективируются правовые тексты, правовые нормы и правовые отношения [3, с. 13; 8, с. 9]. Обратимся к пояснениям самого автора.
-
А. В. Поляков отмечает неразрывную связь права с существованием человеческого общества, что проявляется в социальном характере условий возникновения права. Человек же, являясь существом социальным, создает себя сам в рамках коммуникативной деятельности с другими членами общества [6, с. 203–220]. На этом основании он определяет общество как « совокупность людей, выделяемую на основе воспроизводимой ими системы общезначимых коммуникативных действий » [6, с. 221]. Таким образом, человеческий порядок устанавливается и поддерживается нормами права, которые формируются, существуют и проявляют себя только в контексте социальной коммуникации. Можно предположить, что автор использует социологический метод, согласно которому право и его отдельные элементы исследуются сквозь призму общественных явлений и процессов. Этот тезис коммуникативной теории А. В. Полякова свидетельствует о теоретическом недостатке его авторской концепции, так как при его буквальном истолковании возникает логическое противоречие, согласно которому право может формироваться и вне социального контекста. Следовательно, указание на социальные условия формирования права представляется неоправданным и излишним.
В рамках следующего тезиса, раскрывающего суть коммуникативной теории права, автор утверждает о возможности существования права без государства и невозможности существования государства без права. Он интерпретирует государство как специализированный социальный институт, в контексте которого право приобретает специфическую институциональную форму выражения (текстуальную и организационную) [3, с. 13; 8, с. 9]. Проанализируем этот тезис в контексте исторического метода.
Общеизвестно, что нормы обычного права (неписаного и основанного на обычаях) существовали еще в эпоху первобытной общины. В научной литературе укоренилась идея мононорм, т. е. единых правил поведения, сочетающих в себе прообразы религии, морали и права [14, с. 204]. Т. В. Кашанина отрицает концепцию мононорм, мотивируя свою позицию тем, что неразвитое сознание первобытного человека не могло воспринять концепцию мононорм, да и сама эта концепция не могла существовать в силу отсутствия в то время «первобытных исследователей» [15, с. 215–216]. Даже если согласиться с тем, что концептуального оформления этой идеи в первобытной общине быть не могло, оспаривать существование там норм обычного права было бы нелогично. С точки зрения формальной логики, формулировка А. В. Полякова некорректна, так как при ее буквальном истолковании может возникнуть теоретическая неточность в виде отождествления понятий «право» и «позитивное право». Они соотносятся как целое и часть. Хорошо известно, что наряду с позитивным правом (законы и подзаконные акты) существуют еще и обычное право (неписаное право, основанное на обычаях), божественное право (основанное на теологии), естественное право и т. д. Таким образом, в отрыве от государства не может существовать именно позитивное право, а не право вообще. Следующие три тезиса теории А. В. Полякова посвящены понятию правого текста, его отличию от нормы права и их взаимодействию.
По его мнению, правовой текст – это опосредующая правовую коммуникацию система знаков, интерпретация которых порождает тот или иной правовой смысл, направленный на регулирование поведения субъектов посредством определения их правомочий и правообязанностей [3, с. 13–14; 8, с. 9]. На уровне индуктивного умозаключения не вызывает сомнения обстоятельство, что текст любого правового документа имеет знаковое выражение, интерпретация которого образует правовой смысл. А. В. Поляков отмечает, что существуют как внетекстуальные источники права (интерсубъективная деятельность членов общества, в рамках которой находят свою реализацию различные человеческие потребности), так и текстуальные источники права (мифы, правовые обычаи, судебные прецеденты, судебная и административная практика, правовая практика, правовые доктрины, священные книги, правовые договоры, законы и подзаконные акты) [6, с. 623–658]. Существование внетекстуальных источников права без труда выводится на основе применения исторического метода (например, источники римского права древнейшего периода были устными, а затем по мере развития общества приобретали письменный характер).
Суть следующего тезиса состоит в том, что необходимо отличать правовой текст от правовой нормы, так как правовая норма находится не в тексте, а в психосоциокультурной действительности [3, с. 14; 8, с. 9]. А. В. Поляков отмечает, что возникновение, происхождение и становление права в качестве специфического социального явления (правогенез) детерминируется социопсихическими и социокультурными коммуникативными условиями [6, с. 203–234]. К первым условиям он относил следующие способности индивидуума: понимание идеального смысла правил должного поведения, выраженных в общеобязательных нормах; прямое или опосредованное признание этих правил поведения в качестве необходимого основания для своего внешнего поведения; самостоятельная реализация своих полномочий и обязанностей. Вторые условия образует наличие в обществе текстуально объективированных, общезначимых и общеобязательных правил поведения, которые определяют права и обязанности членов социума и выступают в качестве общезначимых ценностей [6, с. 234–237]. Проанализируем этот тезис в контексте такого логического приема, как аналогия, и сравнительно-правового метода.
Признание существования нормы права в контексте социопсихических и социокультурных отношений – это явная дань Л. И. Петражицкому (1867–1931), который был преподавателем Петербургского университета задолго до А. В. Полякова. Как мы знаем, этот дореволюционный правовед выводил право из человеческих эмоций. Он отмечал существование первичных эмоций (биологические потребности человека) и бланкетных эмоций (поведение человека в обществе) [16, с. 717]. Таким образом, социопсихические и социокультурные условия формирования права – это терминологически переработанные А. В. Поляковым первичные и бланкетные эмоции Л. И. Петражицкого. Указание на их коммуникативный характер сути дела не меняет, так как коммуникативный характер классификации эмоций Л. И. Петражицким не вызывает сомнений.
-
А. В. Поляков акцентирует внимание на том, что правовая норма конституируется всей совокупностью правовых текстов данной культуры [3, с. 14; 4, с. 9]. Этот тезис прямо адресует нас к признаку системности права. Очевидно, что право как системное образование не может конституироваться отдельным правовым текстом, так как нормы права существуют в тесной взаимосвязи. На основе использования
приемов формальной логики в виде сходства и аналогии, а также системного (изучение права как совокупности элементов, расположенных в определенной последовательности) и исторического методов можно сделать вывод, что это осознание в завуалированном виде существовало еще во второй половине XVIII века.
А. Н. Радищев (1749–1802) выделял следующие виды законов: государственные законы (права и обязанности власти и населения); гражданские законы (лица, вещи и соответствующие деяния); уголовные законы (противозаконные деяния) и законы, «служащие к восстановлению общего мнения» (воспитание детей и уважение законов) [17, с. 166]. Таким образом, осознание права как системного явления, конституируемого множеством правовых текстов, в том или ином виде относится еще к самым истокам возникновения политико-правового знания.
Следующие два тезиса посвящены эйдосу права. А. В. Поляков полагает, что эйдос права находит свое выражение в структуре права, которая представляет собой коррелятивную связь правомочий и правообязанностей. Правомочие образует эйдетический центр права. Это та точка, из которой «расходятся лучи правового смысла» [3, с. 14; 6, с. 9–10]. Что же понимать под эйдосом права? Во время обсуждения курса лекций Л. Б. Ескина, которая, вероятно, имела в виду формально-юридический метод, справедливо отметила, что термин «эйдос» неоднозначно трактуется в словарях (вид, образ, явление, сущность), что не позволяет читателям понять, какой смысл автор вкладывает в это понятие [3, с. 28]. Отвечая на это замечание, А. В. Поляков отмечает, что с таким же успехом эту претензию можно было бы адресовать лично Э. Гуссерлю за то, что он подменяет давно разработанное К. Марксом понятие сущности права каким-то эйдосом, значение которого «темно и неясно». По мнению А. В. Полякова, значение термина «эйдос» не нужно искать в словарях и энциклопедиях, а следует обратиться к его феноменологическому значению, т. е. к теории Э. Гуссерля [3, с. 109–110]. Поскольку мы не получили прямого ответа на вопрос, что автор вкладывает в этот термин, будем трактовать его по смысловой нагрузке этих тезисов как сущность права.
Размышляя в ключе индукции, можно прийти к выводу, что автор в качестве тезисов своей теории отмечает два обстоятельства: всякому субъективному праву корреспондирует та или иная юридическая обязанность; субъективное право (правомочие) является основой при реализации права. Представляется, что здесь он воспроизводит классические постулаты теории правоотношения, которые были известны задолго до его теории. На основе использования таких логических приемов сходства и аналогии, а также сравнительно-правового метода мы можем проиллюстрировать верность этого умозаключения.
Например, уже упомянутый классик дореволюционной школы юридического позитивизма Г. Ф. Шершеневич писал, что в любом юридическом отношении «могут быть обнаружены всегда право и обязанность». Любое юридическое отношение устанавливается ради того, что «один человек приобретает право требовать, чтобы другой содействовал ему или не препятствовал в осуществлении его интереса, а другой обязывается к тому» [18, с. 143]. Таким образом, корреспонденция прав и обязанностей, а также основополагающее значение субъективного права были известны еще дореволюционной правовой науке, в советское время они были концептуально оформлены, а на сегодняшний день существуют в виде общеизвестной информации даже в контексте учебной литературы.
Следующий тезис теории А. В. Полякова заключается в том, что понимание права как специфического феномена возможно лишь при наличии социально значимого нормативного содержания, интерпретируемого социумом как ценность, что придает правовым притязаниям правомерное значение [3, с. 14–15; 6, с. 10]. В данном тезисе автор воспроизводит классическое понимание нормативности как универсального признака права. В данном контексте уместно провести аналогию с точкой зрения Г. В. Мальцева, согласно которой нормативность является универсальным и глубинным качеством права, так как норма характерна как для древнего обычая, так и для современного закона [7, с. 7]. В данном случае Г. В. Мальцев лишь констатирует общеизвестную истину. Далее А. В. Поляков формулирует тезис, посвященный правовым ценностям. По его мнению, правовые ценности могут иметь как эйдетический (общий) смысл, так и социокультурное (конкретное) значение [6, с. 10; 3, с. 15]. В силу того, что речь идет об анализе тезиса конкретной теории права, проведем логическую аналогию и поясним это умозаключение на примере политико-правовой мысли в России. В данном случае целесообразно использовать сразу несколько методов: исторический метод и аксиологический метод (анализ правовых элементов в качестве ценностных ориентиров).
Осознание того, что право должно выражать одновременно как общечеловеческие, так и конкретно-исторические ценности, существовало еще в период зарождения теоретико-правового знания. Так, первый русский профессор права С. Е. Десницкий (1740–1789) предложил свой проект государственных преобразований. Если очень кратко передать его суть, то все сводилось к следующим тезисам: необходимость разделения властей в нашей стране; создание законодательной власти, «судительной» власти (осуществление правосудия), «наказательной» власти (исполнительная власть) и гражданской власти (прообраз местного самоуправления); подчиненность всех ветвей власти российскому монарху [19, с. 98–105]. Таким образом, разделение властей следует признать правовой ценностью общего значения, а подчинение всех ветвей власти российскому монарху – социокультурной правовой ценностью, характерной для конкретно-исторической ситуации. Как мы видим, даже в контексте воззрений первого русского профессора права достаточно четко обнаруживается осознание того, что право должно выражать одновременно как общечеловеческие, так и конкретно-исторические ценности.
Следующий тезис А. В. Полякова состоит в том, что для права всегда характерно психическое принуждение к соблюдению нормативных правил, которые вытекают из правовых текстов. В свою очередь возможность физического принуждения имеет ограниченный характер и воплощается в правоохранительном механизме государстве [6, с. 10; 3, с. 15]. На основе логического метода аналогии, исторического и сравнительноправового методов мы приходим к выводу, что сама идея психического принуждения четко прослеживается в трудах Л. И. Петражицкого, который выводил право из человеческих переживаний (эмоций), т. е. созданию нормы права предшествует психическое сознание ее необходимости [16, с. 716–718]. Следовательно, осознание на подсознательном уровне необходимости в создании нормы права в дальнейшем проявляется в соблюдении ее даже на подсознательном уровне, т. е. психическое принуждение.
Что же касается ограничительного характера физического принуждения к соблюдению нормы права, это обстоятельство нашло свое выражение в частности в трудах Г. Ф. Шершеневича, который утверждал, что даже государство не может силой заставить гражданина выполнить то, что составляет содержание установленных законодательством норм права: «Если я не хочу исполнить договора, то нет силы в мире, которая могла бы меня принудить действовать вопреки моей воле» [20, с. 15]. Можно сделать вывод, что тезис о первичности психического принуждения к исполнению норм права и ограниченности физического принуждения в лице государственных органов и должностных лиц представляет собой сочетание постулатов психологической теории права и нормативизма.
Предпоследний тезис А. В. Полякова состоит в утверждении, согласно которому право невозможно вне своего действия, под которым понимается его системное функционирование [6, с. 10; 3, с. 15]. По сути дела, если провести логическую аналогию и использовать сравнительно-правовой метод, то становится очевидно, что автор имеет в виду понимание действия права как совокупности всех форм проявления его юридической силы. Эту дефиницию мы можем обнаружить в частности у В. С. Нерсесянца [21, с. 475]. Но даже во времена его научной активности такая дефиниция не могла обладать научной новизной. Следовательно, А. В. Поляков выражает классическое понимание действия права как совокупности всех форм проявления его юридической силы, терминологически описывая его как системное функционирование. В данном случае мы можем обнаружить теоретический недостаток, состоящий в том, что А. В. Поляков игнорирует статический аспект права, который существует наряду с его динамическим аспектом. Создается иллюзия того, что право существует только тогда, когда оно непосредственно функционирует. Вместе с тем на практике существует такая форма реализации права, как соблюдение, которое подразумевает пассивное поведение субъектов, которые тем не менее находятся в рамках правового поля.
Последний тезис теории А. В. Полякова сформулирован как невозможность существования права как вне сознания социальных субъектов, так и вне правосознания, которое не может отождествляться с правом [6, с. 10; 3, с. 15]. Невозможность отождествления права с правосознанием без труда иллюстрируется на основе логического приема сравнения таких понятий, как «право» и «правосознание». Правосознание – это одна из форм общественного сознания, представляющая собой совокупность идей, чувств, настроений, представлений, взглядов, выражающих отношение к праву. Очевидно, что совокупность представлений о каком-либо явлении не может отождествляться с самим этим явлением. В противном случае мы могли бы сделать логически абсурдный вывод, что научная абстракция (теоретические представления о каком-либо явлении) подменяет собой само явление объективной реальности. Таким образом, анализ тезисов, выражающих суть коммуникативной теории права А. В. Полякова, не раскрывает каких-либо новых граней в понимании права, не позволяет обнаружить ни научную новизну, ни авторский вклад в развитие теории права. Тем не менее существует точка зрения, согласно которой данная теория права состоятельна.
Сам автор идентифицирует свою теорию как «новой взгляд на право», мотивируя эту оценку тем, что ранее в российской науке право никогда напрямую не связывалось с идеей коммуникации [22, с. 8]. Д. И. Луковская и вовсе считает заслугой А. В. Полякова создание оригинальной правовой теории с собственным именем, с собственной родословной, занимающей особое место в теории права [5, с. 8]. Проанализируем эти оценки.
При всем уважении к автору данная точка зрения не представляется состоятельной. Как уже был проиллюстрировано, элементы философского понимания права и его коммуникативной природы четко прослеживаются во всех классических типах понимания права. То обстоятельство, что дореволюционные правоведы не использовали коммуникативную терминологию, нельзя рассматривать как непонимание ими того, что право невозможно вне социальной коммуникации. Более того, в советской правовой науке, в частности на примере позиции Г. В. Мальцева, существовало интегративное понимание права, из которого без труда можно вывести его коммуникативную направленность. Анализ новизны тезисов коммуникативной теории права А. В. Полякова посредством обращения к позициям дореволюционных и советских ученых свидетельствует о том, что вся теория простроена на компиляции и терминологической переработке различных положений классических типов понимания права. В чем же тогда мы можем обнаружить новизну? Логично будет обратиться к методам.
Д. И. Луковская и Е. В. Тимошина применительно к коммуникативной теории отмечают, что адекватное познание права возможно лишь в контексте современной научной методологии [5, с. 6]. В данном случае следует признать принципиально верным замечание О. В. Мартышина, согласно которому сам по себе метод не может создать теорию, если в результате его применения не формулируются новые выводы. Выводы А. В. Полякова совпадают с позициями авторов, которые не афишировали своей приверженности «методологическим подходам современной гуманитаристики», а зачастую и хронологически не могли ими пользоваться [2, с. 300]. Таким образом, в рамках коммуникативной теории права А. В. Полякова отсутствуют как положения, отличающиеся авторской новизной и научной значимостью, так и авторская методология, позволяющая раскрыть какие-то новые грани в понимании права.
Список литературы Коммуникативная теория права А.В. Полякова: анализ основных положений и аргументированная критика
- Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М., 1990.
- Варламова Н.В. Типология правопонимания и современные тенденции развития теории права. М., 2010.
- Егоров А.А. Нравственные основания и права в трудах А.П. Куницына (1783 - 1840) // Труды Академии Управления МВД России. № 2 (62). 2022. С. 149 - 158.
- Егоров А.А. Проект государственных преобразований в трудах С.Е. Десницкого // Труды Академии Управления МВД России. № 3 (55). 2020. С. 98 - 105.
- Егоров А.А. Соотношение нравственности и права в трудах Г.Ф. Шершеневича (1863 - 1912) // Труды Академии Управления МВД России. № 2 (66). 2023. С. 15 - 23.
- История политических и правовых учений: учебник / под общ. ред. О.В. Мартышина. М., 2010.
- Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные подходы и новые трактовки. М., 1999.
- Коммуникативная концепция права: вопросы теории. Обсуждение монографии А.В. Полякова. СПбГУ. Юридический факультет. 2003.
- Коммуникативная теория права и современные проблемы юриспруденции. К 60-летию А.В. Полякова. Т. 1.. СПб., 2014.
- Куницын А.П. Право естественное. Санкт-Петербург, 1818.
- Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1989.
- Мартышин О.В. Философия права. М., 2020.
- Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
- Поляков А.В. Коммуникативная концепция права: Дис. … докт. юрид. наук. СПб., 2002.
- Поляков А.В. Коммуникативное правопонимание. Избранные труды. СПб., 2014.
- Поляков А.В. Общая теория права. Феноменолого-коммуникативный подход. Курс лекций. СПб., 2003.
- Поляков А.В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода. М., 2023.
- Радищев А.Н. Проект для разделения Уложения Российского // Полное собрание сочинений в 3 т. Т. 3. - М. - Л., 1938-1954.
- Шершеневич Г. Ф. Общее учение о праве и государстве: лекции. М., 1911.
- Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве. Казань, 1896.
- Шершеневич Г. Ф. О чувстве законности: публичная лекция, читанная 10 марта 1897 г. Воронеж, 2018.
- Ющенко Н.В. Государственно-правовые взгляды С.А. Муромцева: Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2002.