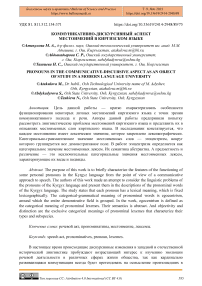Коммуникативно-дискурсивный аспект местоимений в киргизском языке
Автор: Атакулова Мерим Абдыкеримовна, Абдыкадырова Сюита Рысбаевна, Ташиева Н.С.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 4 т.9, 2023 года.
Бесплатный доступ
Цель данной работы - кратко охарактеризовать особенности функционирования некоторых личных местоимений киргизского языка с точки зрения коммуникативного подхода к речи. Авторы данной работы предприняли попытку рассмотреть лингвистические проблемы местоимений киргизского языка и представить их в описаниях местоименных слов киргизского языка. В исследовании констатируется, что каждое местоимение имеет лексическое значение, которое закреплено лексикографически. Категориально-грамматическое значение местоименных слов - эгоцентризм, вокруг которого группируется все демонстративное поле. В работе эгоцентризм определяется как категориальное значение местоименных лексем. Их семантика абстрактна. А предметность и различение - это исключительные категориальные значения местоименных лексем, характеризующие их виды и подвиды.
Речевой акт, прономинативы, местоимение, лексемы
Короткий адрес: https://sciup.org/14127688
IDR: 14127688 | УДК: 81. | DOI: 10.33619/2414-2948/89/75
Текст научной статьи Коммуникативно-дискурсивный аспект местоимений в киргизском языке
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 81. 811.512.154:371
В настоящее время происходящие дискурсивные изменения в западной и отечественной исторической лингвистике пробуждают возрастающий интерес к изучению эволюции речевой деятельности в различных сферах жизни общества, так как кардинально развивающаяся коммуникация всегда будет претендовать на осмысление произошедших в ней перемен. понимание происходящих в обществе перемен. Стремление понимать изменения, происходящие в обществе, будет всегда, так как общение существенно развивается. Коммуникативно-дискурсивный аспект играет важнейшую роль в современном социуме, и признается как один из наиболее эффективных способов реализации образовательной языковой политики при обучении любого языка в современном вузе. Новизна данного исследования — в недооценке роли парадигматических свойств прономинативов в прагматических изменениях их употребления.
Коммуникативно-речевое своеобразие местоименных слов всегда было предметом изучения. Однако в кыргызском языкознании и тюркологии этот вопрос никогда не поднимался и специально не изучался. Поэтому в данной работе мы стремимся кратко охарактеризовать особенности функционирования некоторых личных местоимений в кыргызском языке с точки зрения коммуникативного подхода к речи. Перед нами стояла задача определить эгоцентризм как категориальное значение местоименных парадигм в кыргызском языке, проанализировать местоимения и сферы их отражения с позиций индивидуально-личностной направленности производителя речевых сообщений. в ходе исследования применялись методы анализа методической литературы по теме работы, описательный и сравнительно-сопоставительный метод исследования, методы анализа, синтеза, моделирования, обобщения, аналогии и формализации.
Одной из специфических особенностей местоимений языка является их семантика. Местоименная семантика абстрактна, универсальна и очень гибка. Абстрактность семантики привела к тому, что теория местоимений превратилась в узел языковых противоречий. Речевое общение есть коммуникация, осуществляемая ее участниками с помощью речевых актов для обмена информацией. Речевым актом, как известно, называют целенаправленное речевое действие, совершаемое в соответствии с принципами и правилами речевого поведения, принятыми в обществе. Основными его чертами являются намеренность (интенциональность), целеустремленность и конвенциональность (согласительность) [1].
Любой текст отражает позицию говорящего, которая является центром речевого высказывания. Коммуникативный речевой акт имеет компоненты, которые включают в себя адресанта, адресата, сообщение, ситуацию, цель сообщения, код сообщения, контакт между коммуникантами, т.е, говорение-слушание, чтение-письмо, чтение «про себя» - чтение вслух и т.д.), модальность сообщаемой информации, объективность-субъективность выражения и понимания сообщения, жанрово-стилистическое воплощение информации (письмо, реплика, контраргумент, отчет, интервью, сказка, и т. д.). Он всегда соотнесен с лицом производителя речи, являющегося активным участником коммуникации. Говорящий (или пишущий) всегда выступает в качестве «дирижера» речевого акта, определяет предмет и тему речевых произведений, выражает свою точку зрения и отношение к адресату, к предмету разговора. Коммуниканты производят и воспринимают речевые акты в соответствии с ситуацией общения, со своими намерениями, устремлениями и целеустановками, исходя из имеющегося уровня своей языковой и культурно-образовательной компетентности. Речевое общение отражает реальную систему жизнедеятельности коммуникантов и поэтому в нем в той иной степени проявляются личностные черты адресанта и адресата, их общественное положение и статус, их ориентиры в пространстве и во времени и т.д.
Прагматика всех личных местоимений заключается в единстве и взаимодействии говорящего и слушающего как между собой, так и с третьим лицом. Однако в речи участники общения часто меняются ролями: личные местоимения второго и третьего лица могут указывать на говорящего, и, наоборот, личные местоимения первого лица могут указывать на второе или третье лицо. Сразу отметим, что система местоимений, особенно личных, адекватна акту коммуникации: она включает в себя отправителя речи (1 лицо), получателя речи (2 лицо) и не-участника или объекта коммуникации (3 лицо). Иными словами, трехчленная оппозиция личных местоимений составляет базу осуществления речевого акта. Члены этой оппозиции противопоставлены друг другу по участию в диалоге, являющемся естественной формой коммуникативного акта. Поэтому неслучайно В. А. Богородицкий подразделял личные прономинативы на диалогические (1 и 2 лицо) и 3 лицо, «сторонее разговаривающим» [2].
Данная оппозиция значительно осложняется, когда она рассматривается не как модель или схема, отражающая абстрактное соотношение личных прономинативов, а как отношение реальное, существующее в пространстве и времени. Характеризуя диалог с учетом его реальных пространственно-временных параметров и ориентиров, мы видим подвижность и динамичность всей системы личных местоимений. Так, 3 лицо может обозначать субъект коммуникации, участника диалога в прошлом или будущем временном плане и объект речевого акта, предмет диалога по отношению к моменту общения. Ал сага эмне дегени менин эсимде «Я помню, что он говорил тебе». В данном речевом произведении местоимение 3-го лица ал «он» выступает в качестве говорящего в прошлом. Адресат сага «тебе» и в прошедшем речевом акте, и в настоящем речевом акте имеет статус адресата, т.е. выполняет функцию 2 лица. А отправитель речи, выраженный словоформой — прономинативом менин «мой» и лично-посессивным суффиксом — им- «мой», в данном высказывании, т.е. в момент речи, выступает в качестве 1 лица, в прошлом же речевом акте он занимал позицию наблюдателя, не-участника общения, выполняя роль 3 лица. С точки зрения настоящего времени ал «он» является объектом и не-участником общения. В одном высказывании две единицы совмещают роли разных коммуникантов : ал «он» — роли отправителя речи и не-участника общения; менин и –им «мой» - роли не-участника общения и отправителя информации.
Во фразе Сен ага эмне дебегин, ал түшүнбөйт «Что бы ты ему ни говорил, он не поймет» два плана — план ирреальный и план реальный. Условная часть фразы содержит предположение. В данном высказывании сен «ты» является адресантом (отправителем речи), а ага «ему» — адресатом (получателем речи) в предполагаемых и ирреальных ситуациях речи, сен «ты» выступает в роли адресата, ал «он» в роли объекта (не-участника) речи в реальном акте речи. Иначе говоря, сен «ты» одновременно выполняет функции отправителя и получателя информации. Позиция автора текста, т.е. общего «я», представлена не явно, имплицитно. В речевом акте отправной точкой соотношения и корреляции личных прономинативов является говорящее лицо, его позиция в координатах пространства и времени. Производитель речи выступает как точка отсчета речевого акта, поскольку, как пишет Л. Я. Маловицкий, «вся прономинальная система эгоцентрична» [3] в коммуникации и подчиняется позиции, видению и целям отправителя информации.
В языке многочисленные факты свидетельствуют о том, что корреляция личных местоимений сопряжена с временными значениями. Известно, что естественный временной план диалога — настоящее актуальное время. Например, в предложении Мен сени түшүнүп эле турам. Ал акмак. Эмне кылайын ? (разг.) «Я тебя уж понимаю. Он дурак. Что мне делать?» местоимение мен «я» совпадает с производителем речи, который говорит сейчас, в данный момент и здесь. Местоимение сени «тебя» совпадает с получателем информации, который тоже находится здесь, сейчас. Слово ал «он» совпадает с объектом речи, отсутствующим на месте и во время разговора. Это типичное употребление личных местоимений в речевом акте.
Настоящее актуальное обычно опирается на референцию «я-сейчас-здесь», «ты-сейчас-здесь». Только не-участник диалога, т.е. ал «он», не принимающий участие в диалоге, находится вне этой референции: может быть и не сейчас, и не здесь. Более того, если местоимение ал «он» обозначает лицо, присутствующее при диалоге в настоящем продолжительном, то по этическим нормам ал «он» не употребляется. В этом случае обычно называется имя этого лица. В связи с изложенным интересны наблюдения Э. Бенвениста. Его мысли могут быть экстраполированы и на факты киргизского языка. Он в статье «Природа местоимений» писал: «Это есть объект, наглядно обозначаемый одновременно с протекающим актом речи, имплицитная соотнесенность… будет ассоциировать данный предмет с я и ты. Вне этого класса, но в том же плане и с такой же референцией оказываются наречия здесь и сейчас. Отношение этих элементов к «я» станет очевидным в следующем определении: здесь и сейчас ограничивают непосредственно данные место и время, тождественные по положению в пространстве и во времени с речевым актом, содержащим я…. Дейксис совпадает во времени с моментом речи, содержащим указатель лица, эта соотнесенность к моменту речи и придает указательному слову каждый раз единственный и неповторимый характер, заключающийся в единственности речевого акта, с которым указательное слово имеет референцию. Основным, таким образом, является соотношение указателя (лица, времени, места, показываемого объекта и т.д.) с данным настоящим моментом речи» [4].
Планы прошедшего и будущего времени связаны с референцией « я-тогда-там », отдаляют время и место общения от момента разговора и предоставляют большую свободу коррелятивного употребления мен «я» - сен «ты», мен «я» — ал «он, она», поскольку референция « он-тогда-там » денотативно может быть тождественна референции « я-сейчас-здесь ». Ср., например, высказывание Сен ага мен тууралуу эмне дедиң эле? «Что ты говорил ему про меня», которое построено по схеме « ты-тогда-там ». Значение «ты» заключено в местоимении сен и суффиксе –ң. Отправитель речи — 2 лицо в прошлом. А местоименная словоформа ага «ему» означает адресата, т.е. получателя речевой информации. В данном акте речи слово мен (тууралуу) «(про) меня» соотносится с не-участником «тогдашнего» общения, являясь выразителем 3 лица. Это говорит о том, что в речевом акте в зависимости от контекста и ситуации общения коммуниканты могут меняться ролями [1].
Предложение Ал мага сенин үстүңөн арыз жазарын айткан «Он говорил мне, что напишет на тебя» имеет референцию «я-тогда-там», которая содержит два плана – план прошлого и план будущего. Высказывание ведется от имени первого лица. В нем участвуют местоимения 1, 2 и 3 лиц. Однако местоимение 3 лица ал «он» выполняет функцию отправителя информации (функцию говорящего), местоимение 1 лица — функцию получателя информации (собеседника), а местоимение 2 лица выполняет роль объекта речи, т.е. неучастника общения. Одно действие отправителя речи осуществлено в прошедшем времени, а другое действие намечается на будущее.
В примере Мен сенин кандидатураңды сунуштадым. Чын. Бирок ал колдобой койду. «Я предложил твою кандидатуру. Правда. А он не поддержал» четко вырисовывается референция «я-тогда-там». В центре высказывания — говорящее лицо, представленное местоимением мен «я» и суффиксом –м «я». Эти местоимение и лично-предикативный суффикс 1-го лица ед.ч. представляют собой центр референции «я-тогда-там». Местоимение сенин «твоя» и лично-посессивный аффикс –ң «твоя», соотносясь между собой (сенин кандидатураң — твоя кандидатура), означают отсутствующее лицо, т.е. не-участника общения. А местоимение ал «он» в координации с нулевым аффиксом в словоформе вспомогательного глагола койду-ш (ср. койдум в 1 лице) соотнесено с получателем информации. В данном тексте имеется два плана — план прошлого с тремя лицами и план настоящего. План настоящего тоже включает в себя трех референтов: мен «я» и –м «я» — отправитель информации, сенин «твоя» и –ң «твоя» - получатель информации, ал «он» и - ш «он» — объект речи, не-участник общения в момент речи [1]. План настоящего имеет референцию, отличную от плана прошлого. Это говорит о том, что наряду с референцией «я-тогда-там» в данном тексте имеет место и референция «я-сейчас-здесь». Две референции совмещаются в одном акте речи.
Есть случаи, когда личные местоимения выходят за пределы референций «я-сейчас-здесь» и «я-тогда-там», принимая обобщенный и иногда аллегорический смысл. Обратимся к афоризму Мен таза болсом, сен таза болсоң, анда коом да таза болот «Если я буду чистым, ты будешь чистым, то и общество будет чистым». В этом примере местоимения мен «я» и сен «ты» имеют обобщенный смысл. Они прямо не соотносятся с конкретным говорящим и собеседником, выступая прономинальным знаком каждого отдельного члена общества. Здесь дихотомия «Я — не-я» представлена не оппозитивно, а объединительно. В качестве ее денотатов выступают единичные люди в составе целого общества. Данный афоризм, принадлежащий общественному деятелю И. Раззакову, вероятно, восходит к паремии Мен күйбөсөм, сен күйбөсөң, ким күйөт ? [5] или, по крайней мере, сходен с нею по строению. Эту паремию можно перевести на русский язык следующим образом: Если я не забочусь, ты не заботишься, кто же будет заботиться? И в этом примере местоимения мен «я» и сен «ты» коррелируют друг с другом точно так же, как и в рассмотренном выше афоризме.
Проанализируем крылатое выражение Мен чарыкчанды сүйбөйм, өтүкчөн мени карабайт [5] — «Я не люблю бедняка, а богатый на меня не смотрит», где мен «я» и мени «меня» не соотносятся с конкретным производителем речи, а выступают в качестве прономинального означающего в значении «каждый (человек)», «любой (человек)». Эта паремия может быть заменена трансформой Ар ким чарыкчанды сүйбөйт, отүкчөн ар кимди сүйбөйт- «Каждый (человек) не любит бедняка, а богатый на каждого не смотрит» [5]. Употребление прономинатива мен «я» вместо ар ким «каждый, всякий, любой» в данном случае как бы отстраняет и отводит оценку от реального субъекта в сторону говорящего, усиливая этим обобщение и смягчая «критику» этого субъекта.
Личные прономинативы в составе пословично-поговорочных изречений расширяют свою семантику в плане отражения и обобщения объектов и их свойств. Иногда семантика прономинативов нейтрализуется, особенно в тех случаях, когда они отождествляются: мен «я» — сен «ты», биз «мы» — алар «они» и т.д. Например, пословица Сиздин акканыңыз — биздин акканыбыз [5]- «Ваша беда — наша беда» (букв. «Ваше течение — наше течение»), приводимая М. Ибрагимовым устраняет формально-семантическую дифференцированность двух рядов прономинативных образований — генитивных и лично-предикативных форм:
Сиз-дин - ыңыз «ваше + вы»
Биз-дин - ыбыз «наша + мы»
Паремия содержит важное этическое содержание. Говорящая сторона отождествляет себя с участником общения. Адресант и адресат, по мысли отправителя информации, идентичны и не имеют различий и разногласий. Отправитель сообщения подчеркивает взаимосвязь и взаимообусловленность действий, поступков своих и собеседника. Ср., например: Сиздин ийгилик (= ийгилигиңиз) – биздин ийгилик- «Ваш успех – наш успех», Сиздин бала(ңыз) – биздин бала -«Ваш ребенок – наш ребенок» и т.д. Иногда эта речевая формула используется в этических, дипломатических, саркастических и иных целях. В этом случае значение слова биз «мы» противопоставлено значению сиз «вы». Таким образом, мы видим, что местоименное значение является гибким и подвижным, принимает разные оттенки в соответствии с контекстом, целеустановкой и намерением отправителя речевых сообщений. Рассматривая русские предложения типа Я убит подо Ржевом – Мен Ржевдин жанында өлтүрүлгөнмүн, Л.Я.Маловицкий подобное употребление прономинативов называет панхроническим, поскольку прономинатив я «мен» включен в логически несовместимый с ним контекст. По его мнению, данное местоимение находится вне оси «я-здесь-сейчас». «Высказывание Я сейчас здесь истинно в каждом случае его произношения, то есть является необходимо истинным: фразы типа Меня здесь нет; Я не здесь, а там могут иметь только переносное значение, в прямом понимании они абсурдны» [3].
Диалектика временных отношений в соединении с прономинальным дейксисом обладает огромным семантическим потенциалом. Так, отношение кечээ -«вчера» - бүгүн -«сегодня» — эртен/эртеге — «завтра», где центральным звеном выступает сегодня, связанное с моментом осуществления речи, с мен «я», ориентируясь на координацию с временным планом повествования, способно объединить три временных среза. Ср., например: Эртең эле согуш болгон – А завтра была война (Б.Васильев) или: Сени кечээ келбейт деп ойлогом- «Я думал, что ты вчера не придешь». Во втором примере производитель речи говорит сегодня о том, что случилось вчера и во что не верилось позавчера. А в первом примере автор сегодня рассказывает о прошлом, которое предшествовало началу Великой Отечественной войны.
Система прономинативов во многом определяет оптику и стратегию текста. Фактически, система «адресант - адресат - не-участник» есть фокусная шкала, которая определяет расстояние между говорящим и объектом. Смена местоимений – это часто смена семантического фокуса, смена точки видения объекта. Интересны в этом отношении факты замены первого лица вторым. Ср. пример из разговорной речи: Туура айтсаң, эч кимге жакпайсың. Муну эмдигиче билбепмин — «Если скажешь правду, никому не понравишься. Этого я не знал до сих пор». В данном тексте – мин «я» является суффиксальным прономинативом 1-го лица. В то же время суффиксом – ң «ты» (а йтсаң - «если скажешь» и жакпайсың «не понравишься») отправитель сообщения рассказывает о себе, ведет повествование в первом лице ( муну эмдигиче билбепмин «я этого до сих пор не знал»), сначала отстраняется от себя, от «я-сейчас» и обращается к «я-всегда» как адресату, заключенному в суффиксе – ң «ты» в значении 1 лица. Второе лицо является элементом трехчленной системы личных местоимений и аффиксов и обладает своей мерой в шкале расстояний между производителем речи и не-участником (объектом) общения. 2 лицо сокращает эту дистанцию, становясь между ними связующим звеном.
Обратимся снова к паремиям. Киргизы говорят: Малың барда баары дос, малың жокто кана дос? [5] «Когда есть богатство (скот) - все друзья, когда нет богатства (скота) - где друзья?». Мы здесь имеем дело с двумя трансформами одной паремии, которые употребляются параллельно. В первой трансформе представлен суффикс 2 лица (- ың «твой, твое»), во второй — суффикс 1 лица ( -ым «мой, мое»). Их значения идентичны и полностью совпадают. Мы видим семантическую нейтрализацию суффиксально-прономинативных признаков 1 и 2 лица. Явление нейтрализации свойственно и другим личным прономинативам. В определенных видах текста местоимения мен «я» и биз «мы» соотносятся с одним и тем же денотатом (ср. авторское биз «мы» в научном и публицистическом тексте). Дифференциация по признаку числа иногда устраняется между местоимениями сен «ты», сиз «Вы» и силер «вы», а также между ал «он, она» и алар «они». Все они могут иметь одного отдельно взятого референта [6].
Все это говорит о прагматической значимости и функционально-семантической подвижности прономинативов языка как на лексическом, так и на морфемном уровне. Содержание прономинатива меняется в зависимости от позиций и «картины мира»
(ос) CD коммуникантов, от контекстных координат (от места, времени, условий и т.д. общения, от личности коммуникантов в ролях говорящего и слушающего и т.д.). Прав Е. Н. Сидоренко, который называет прономинацию «особым способом отображения, при котором отсутствует постоянно закрепленная связь данного звукового комплекса с каким-либо явлением объективной действительности, а вместо этого подобная связь осуществляется констекстуально-ситуативно» [7].
Все личные местоимения могут соотноситься с одним и тем же денотатом, выступая в качестве его «отражателя», в зависимости от позиции адресата, адресанта и объекта, от условий контекста и дискурса.Речевые акты в совокупности составляют нечто целое, которое называют дискурсом. В таком речевом целом отражается и реализуется стратегия замысла производителя речи. Обращение к дискурсу приводит к «восстановлению роли субъекта в лингвистике» (П. Серио) [8]. Ведь говорящий в процессе общения выражает свою точку зрения и отношение к собеседнику, к предмету речи. А обращенные к нему высказывания он воспринимает исходя из имеющегося уровня компетентности и конкретной речевой ситуации. Дискурс как последовательность речевых актов проявляется в совокупности с прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами и берется в событийно-ситуативном аспекте с учетом ролей участников общения и мыслительно-речевых механизмов их сознания. Коммуникативно-дискурсивный подход к функционированию личных местоимений позволил нам рассмотреть их в живой ткани высказывания и определить в целостно-организованных речевых произведениях статус и значимость производителя речи, который презентирует себя и выражает свое отношение к адресату, предмету речи, к действительности и к важнейшим бытийным ценностям. В дискурсе говорящий привлекает внимание слушающего, обращаясь к нему и подчеркивая связь своего высказывания с актуальными в момент речи проблемами, устанавливает контакт и обеспечивает ответную реакцию слушающего (получателя информации), специальным образом режиссируя свое высказывание и включая в него фрагменты высказываний адресата и/или не-участников. В таком дискурсе личные прономинативы выступают в качестве незаменимых единиц языка, организующих цепь речевых актов. Личные местоимения в силу своих природных свойств способны организовывать дискурс. Именно личное местоимение со значением «я» означает говорящего. А дискурс — это «речь с позиции говорящего в противоположность повествованию, которое не учитывает такой позиции» (П. Серио) [8].
Межличностные отношения в дискурсе невозможно представлять без личных местоимений как означающих коммуникантов в ролях адресанта, адресата и объекта речевых сообщений. Поэтому есть основания считать рассматриваемый разряд местоимений в качестве важных звеньев в организации дискурса и текста в целом. Межличностные отношения в дискурсе не могут быть представлены без личных местоимений как означающих коммуникантов в роли адресанта, адресата и объекта речевого сообщения. Поэтому есть основания рассматривать рассматриваемую категорию местоимений как важные звенья в организации дискурса и текста в целом.
Данное исследование может быть полезным при обучении кыргызскому языку в целом. Значимость работы заключается также в возможности использования полученных в ходе исследования выводов и результатов при изучении тюркологии, лексикологии и грамматики языка, в разработке теоретических вопросов этимологии, стилистики, сравнительного языкознания, в обучении кыргызскому языку как неродному в современном вузе.
Список литературы Коммуникативно-дискурсивный аспект местоимений в киргизском языке
- Атакулова М. А., Абдыкадырова С. Р., Жанибекова Б. А. О статусе категории принадлежности // Известия Ошского технологического университета. 2022. №1. С. 265-270.
- Богородицкий В. А. Введение в тюрко-татарское языкознание: Ч. 1. М., 2013. 58 с.
- Маловицкий Л. Я. Вопросы истории предметно-личных местоимений (местоимения КТО-и ЧТО основ) // Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена. 1971. Т. 517. С. 3.
- Бенвенист Э. Общее языкознание. М.: Прогресс. 1974. 447 с.
- Ибрагимов М. Кыргызский макал-лакаптары, учкул создуру. Карабалта, 2005.
- Зулпукаров К. З., Зулпукарова А. К. О происхождении и развитии личных местоимений в ностратических языках // Сборник научных трудов Узгенского технико-педагогического института и Ошского технологического университета. 2002. №6. С. 33-39.
- Сидоренко Е. Н. Очерки теории местоимений в современном русском языке. Киев, 1990. 148 с.
- Серио П. Квадратура смысла: Французская школа дискурсивного анализа. М.: Прогресс, 1999. 416 с.