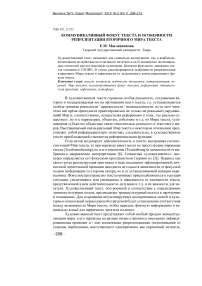Коммуникативный фокус текста и особенности репрезентации вторичного мира текста
Автор: Масленникова Евгения Михайловна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы перевода
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
Художественный текст оказывает как социально-когнитивное, так и вербально-когнитивное воздействие на отдельного читателя и на N-множество потенциальных читателей как его массовую аудиторию. Центром фокусного диапазона текста становится СЛОВО. В статье рассматриваются особенности репрезентации вторичного Мира текста в зависимости от выделяемого коммуникативного фокуса текста.
Текст, контекст, подтекст, понимание, интерпретация, перевод, мир текста, коммуникативный фокус текста, референция, читательская проекция, эвфемизмы, метафора
Короткий адрес: https://sciup.org/146281445
IDR: 146281445 | УДК: 811.111'23
Текст научной статьи Коммуникативный фокус текста и особенности репрезентации вторичного мира текста
В художественном тексте отражена особая реальность, создаваемая автором и поддерживаемая им на протяжении всего текста, т.е. устанавливаются особые границы реальности / ирреальности / вымышленности, из-за чего читателю всё время приходится ориентироваться не только на реальный (окружающий) Мир и, соответственно, осуществляя референцию к тому, что реально существует, но и к параметрам, объектам, событиям и т.д. из Мира текста, устанавливая субъектно-объектные связи относительно реального и текстового миров. Выстраиваемый квази-реальный Мир текста в некотором отношении представляет собой референциальную иллюзию, следовательно, в художественном тексте преобладающей становится референциальная функция.
Если автор моделирует действительность в тексте, выстраивая соответствующий Мир текста, то при переводе имеет место не просто формулирование текста (Textformulierung), но и его изменение (Textäußrung) в зависимости от выбранного направления интерпретации [6]. Семантика художественного дискурса определяется его фокусным пространством (термин из [3]). Перевод как своего рода реконструкция оригинала в виде письменно зафиксированной личностной читательской проекции находится не только в зависимости от фокусной подачи информации со стороны автора, но и от устанавливаемой позиции переводчика. Фокусное пространство текста начинает приспосабливаться к текущей ситуации, увеличиваясь или уменьшаясь в зависимости от значимости текста, представленной в нем действительности, ситуации и т.д. и их важности для читателя. Художественный текст, построенный в соответствии с определённым лингвокультурным кодом, предполагает транскультурный подход к прочтению и пониманию. Для сохранения актуализируемых ассоциативных связей и культурных коннотаций переводческой стратегией будет установление соответствия между явлениями из Мира текста, чтобы передать фоновую информацию и изначально ясный для первичного читателя подтекст.
Художественный текст представляет собой особый продукт концептуализации мира, а его переводы на разные языки становятся письменно зафиксированными прямыми и / или косвенными репрезентациями (не)понимания со стороны переводчика, выступающего одновременно как первичный читатель, обратившийся к тексту на исходном языке, и как квази-(со)автор, создающий «свой» текст для читателя из системы переводящего языка, ориентируясь на сферу функционирования текста, особенности читательской аудитории и т.д. Переводчику предстоит самоопределиться относительно того, что рассматривается автором как условие вхождения читателя в текст и соответствующий текстовой Мир.
Во время написания Л. Кэрроллом (1832-1898) книги «Alice’s Adventures in Wonderland» (1865) вечерний чай пили в Англии в шесть часов ( It’s always six o'clock now ). Позднее в массовом сознании время традиционного английского чаепития перенеслось на пять часов, поэтому некоторые переводчики предпочитают корректировать текст относительно ожиданий принимающей аудитории об обычае пить чай в пять часов (А.Н. Рождественская, 1912; В. Набоков, 1923; Б. Заходер, 1971; Л. Яхнин, 1991). Кроме этого, Б. Заходер вставляет в свой перевод объясняющую вставку-метатекст про чудаковатость англичан, оформив её другим шрифтом («В Англии есть старинный обычай - в пять часов вечера обязательно пить чай. Особенно странно, что, когда сказка про Алису вышла в свет, такого обычая ещё не было! Но англичане, как известно, вообще большие чудаки»). Схожим образом переводчики корректируют время начала занятий и время обеда: В.В. Набоков переносит их с девяти часов ( nine o’clock in the morning, just time to begin lessons ) и полвторого ( Half-past one, time for dinner ) на десять часов и на два часа, соответственно. Поскольку первый урок в большинстве школ на территории бывшего СССР начинался обычно полдевятого утра, Л. Яхнин просто указывает на время суток - это утро . Кроме этого, фраза из перевода В. Набокова, что вас зовут на урок , предполагает частные занятия или занятия с домашним учителем. Отметим, что в Англии времён создания книги домашнее образование получали, главным образом, девочки, а занятия с гувернанткой обычно начинались в девять часов утра.
Из-за использования стратегий доместикации или локализации «чужое» из Мира оригинала перестаёт быть и ощущаться таковым, постепенно переходя в «своё» (именно идентифицирующая функция культуры позволяет самоопределиться относительно «чужих» и «своих»).
Динамический характер переводческой деятельности предполагает постановку коммуникативной задачи и составление плана коммуникативных действий. В этом отношении переводческая деятельность представляет собой синтезирующую модель текстопостроения (текстопорождения), которая основана на переходе от мысли / мысленного конструкта / проекции текста непосредственно к тексту и опирается на отношения «целое ^ часть» [1], когда вербализуются планы и замыслы и «строятся» текст-конструкт, план-текст и текущий текст, исходя из фрагмента действительности, коммуникативной ситуации, выбранных стратегий коммуникации и текстотипа. Отличие переводческой деятельности от синтезирующей модели текстопостроения, предложенной А.Г. Барановым, состоит в том, что «семантический континуум» (ср. с представлением о семантическом вакууме, вбирающем в себя смыслы Мира в нераспакованном и непроявленном виде [4]), будет в случае перевода ограничен оригиналом. Став продуктом семиогенезиса, ТЕКСТ занял промежуточное положение на оси «слово - текст - культура», преломляясь в культуре и культурном пространстве [5].
Поскольку любой текст реализуется относительно определённого культурологического пространства, то возрастает роль культуры (первичной культуры как культуры, внутри которой создавался оригинал, и принимающей вторичной культуры) и языков культур на уровне замысла и на уровне исполнения, т.е. вербализации. Образование личностных читательских смыслов, получающих затем письменную фиксацию в виде перевода, зависит от актуализации / выдвижения (foregrounding), дефамилиризации (defamiliarization) и нарративных схем [7].
При первой публикации в «Musical Casket» (1842) стихотворение «Willie Winkie» В. Миллера (1810–1872) имело подзаголовок «A Nursery Rhyme» и описание в сноске как «The Scottish Nursery Morpheus» (буквально ‘шотландская колыбельная’). Однако только первое четверостишие закрепилось в текстовой решётке англоязычной лингвокультуры под названием «Wee Willie Winkie runs through the town». Если в первоисточнике герой, который везде бегает в длинной ночной рубашке ( night-gown ), указывает детям ложиться спать в десять часов ( ten o’clock ), то в ставшей канонической английской версии шотландской колыбельной всех отправляют в кровать в восемь часов ( eight o’clock ) в соответствии с правилами викторианского общества. В отличие от XIX века мальчики больше не носят длинные ночные рубашки: в переводах малыш получает непонятный ночной халат (В.Г. Дмитриева, 2007), шерстяные носочки и большую (на вырост?) пижаму (И. Родин, 2004). По мнению А. Маршака мальчик гуляет налегке в полотняном колпаке (2012) или носит колпачки и ночные башмачки (2013). Г. Варденги назначает время отбоя в одном варианте (2002) на девять часов, но во втором варианте, назвав героя не Вилли Винки , а Дрёмушка Ерё-мушка , велит ложиться спать в восемь часов (2011). С одной стороны, русифицированная форма имени Дрёмушка Ерёмушка восходит к названию формы лёгкого сна ( дрёма ). С другой стороны, имеется соответствующая скороговорка ( На Ерёму напала дрёма, от дрёмы задремал Ерёма ). Словарь В.И. Даля фиксирует пословицу про Ерёму, пытающегося совать нос в чужие дела – Указчик Ерёма, указывай дома! [2]. Таким образом, при реконструкции вторичного текстового Мира имеет место его диффузность, что, в принципе, не исключает оце-ночности при отборе его значащих признаков читателем (или переводчиком).
При попадании в иное культурологическое пространство текст не только запускает механизмы вторичной категоризации и кодификации, но также в той или иной мере начинает отражать отдельные специфические черты принимающей лингвокультуры. В детском стишке «Little Bo-Peep has lost her sheep» пастушка нашла хвостики своих овец висящими на дереве (There she espied their tails side by side, / All hung on a tree to dry). В качестве эквивалента для a tree ‘дерево’ выбираются рябина (И. Родин, 2004), сосна (В. Лунин, 2002) и ветка дубовая (О. Седакова, 2002). Пасторальный образ пастушки представлен с посохом (Then up she took her little crook), что соответствует европейской традиции, но не является характерным атрибутом для России: Взяла посошок и пошла на лужок (О. Седакова). Где же потерялись и потом нашлись подопечные девочки? Переводы представляют места более привычные для русскоязычного читателя в виде леса и чистого поля: барашек в лесу потерялся и по лесу девочка шагала (И. Родин), за рощей кленовой (О. Седакова), она шла по лесу при свете луны, но не сыскала в чистом поле барашка (В. Лунин), в лесу и на речке, в тенистом - 210 - овраге (А. Маршак, 2012). Вероятно, образ леса является архетипическим в русском сознании, став неотъемлемой частью национальной картины мира, о чём свидетельствует полная замена сцены действия из первой строфы стихотворения «The Broom, the Shovel, the Poker, and the Tongs» (1871) Э. Лира (1812-1888), где по моде XIX века нарядные герои в экипаже отправились в Гайд-Парк (took a drive in the Park). Если в оригинале особое внимание отведено описанию нарядов дам: незамужняя мисс одета в чёрное (Miss Shovel was dressed in black (with a brooch), а сопровождающая её в качестве компаньонки дама - в голубом платье с широким поясом (Mrs. Broom was in blue with a sash), то Г. Кружков (2009) даёт описание идиллической картины природы (Кататься отправились в лес, / Царили кругом тишина и покой, / И солнце светило с небес. / Смеялась река, улыбались луга).
Произошло перераспределение гендерных ролей в переводе стихотворения Э. Лира, выполненном И. Родиным (2004). Уже не мужской персонаж ухаживает за женским, а наоборот: Кочерга униженно признаётся Венику в любви ( О, Веник прекрасный, я так вас люблю ), одновременно стыдясь своего внешнего вида ( Взгляните хоть раз на меня! / О, Боже! Я в саже, пыли и грязи... / Не вынесу этого я! ). В оригинале галантный кавалер ( the Poker ) собирается предложить возлюбленной сладкое угощение ( cold apple tart ), тогда как в переводе Веник задумчиво съедает огромный кусок пирога сам, т.е. наблюдается социальное навязывание «чужих» ценностей, смыслов, мотивов и т.д., а вторичный текст перевода устанавливает новые связи с иными социально-культурными факторами, сформировавшимися в принимающем текст социуме, и отражает специфику лингвокультурного поведения. Однако при этом высока вероятность потери национально-культурного содержания и / или его искажение в кривом «зеркале» перевода.
Отдельные параметры исходного текстового Мира могут пропускаться по идеологическим и / или моральным причинам. Пилот-немец ( a Reichs-deutscher ) из романа «Diamonds are Forever» (1956) Я. Флеминга (1908-1964) участвует в контрабанде алмазов. Перечисляемые факты из его биографии ( a Luftwaffe pilot who had fought under Galland ), а Люфтваффе обычно ассоциируется с немецкими военно-воздушными силами периода Третьего рейха (19331945), призваны сформировать образ врага, с которым исторически сражается Британия. Кроме этого, автор упоминает командира, под чьим началом служил лётчик ( under Galland) : это один из трёх братьев лётчиков-асов по фамилии Галланд. Слово the Reich не как ‘государство, империя’, а как ‘рейх’ в массовом сознании в большинстве случаев связано с фашистской Германией ( in defence of the Reich ). Оригинал построен так, чтобы оказывать манипулятивное воздействие на читателя, из чьей памяти ещё не изгладились воспоминания о бомбёжках английских городов немецкими самолётами. В подобных случаях можно говорить об «уплотнении» текстового содержания и текстовых смыслов. Чтобы избежать каких-либо негативных ассоциаций со словом рейх и историзмом a Reichs-deutscher ‘немец - гражданин Германской империи’, П. Шошин (1992), который передал fought under Galland ‘сражался под (началом) Галланда’ как некое место воздушных боёв, говорит не о защите Рейха ( defence of the Reich ), а о сражении за интересы германской империи , чем значительно изменяет исходный временной подтекст и культурно-маркируемую информацию.
Особая роль в переводческой деятельности отводится (не) имеющемуся уровню владения СЛОВОМ как культурной единицей, так как именно СЛОВО способствует культурной ориентации относительно Мира текста и идентификации его параметров, участвуя при этом в образовании системы координат этого Мира. Социальные отношения преломляются в культурно-окрашенном слове, которое отражает систему кодовых переходов. Необходимо учитывать вероятность (возможность) наличия зоны пересечения и / или взаимодействия культур.
Описав способ приготовления мёда как особого напитка из мёду с водою, хмеля и пряностей, В.И. Даль [2] приводит шутливую концовку-присказку: Я сам там был, мёд и пиво пил, по усам текло, в рот не попало, на душе пьяно и сытно стало . Заканчивая свои сказки описанием весёлого свадебного пира, В.А. Жуковский (1783–1852) и А.С. Пушкин (1799–1837) обратились к этой концовке. Начиная от первого перевода Б.Л. Бразоля (1934) до современных переводов сказки про царя Салтана на английский язык, пушкинские мёд и пиво переданы как mead и beer (B. Brasol, 1934; O. Elton, 1935; L. Zellikoff, 1968; Walter W. Arndt, 1972). Историческая маркированность слова мёд как mead ‘мёд (напиток)’, а не как honey ‘мёд’ сохраняется, поскольку в английском языке слово mead в значении ‘drink made by fermenting a mixture of honey and water’ [8] имеет славянское происхождение. Что касается усов из присказки ( усы лишь обмочил ), то в английских переводах усы – это whiskers , чья форма во множественном числе имеет ныне устаревшее значение ‘усы’, а не ‘борода; бакенбарды’. В переводе сказки на французский язык С. Чимишкян снимает фольклорность присказки ( Onc il n’y eut dans l’Histoire / Festin de telle mémoire! / J'y étais et j’ai bien bu, / Ne m’en demandez pas plus! ), не упоминая напиток на меду (‘Я был там и хорошо пил’). Б. Лондинский (1855–1928) родился в Царстве Польском и учился в Санкт-Петербурге. Сравнение Jam też pił tam, jako smok ‘Я тоже пил там как дракон’ из его перевода (1924) встречается в «Национальном корпусе польского языка» ( http://nkjp.pl/ ) в контекстах про употребление крепких напитков ( piłem jako smok ). Именно smok ‘дракон’ позволяет добиться рифмы с формой глагола zmoknąć ‘намокать’ – zmokł ( wąs mi ledwie zmokł ‘мои усы едва промокли’). В итальянских переводах сказки про царя Салтана в соответствии с национальными предпочтениями упоминаются miele e vino ‘мёд и вино’ (Nicola Antonico,1968).
Выводы. То, что попадает в коммуникативный фокус текста перевода как вторичной личностной (читательской) проекции оригинала, во многом зависит от ряда факторов, среди которых: 1) социальные факторы, имеющие место в момент создания перевода, так как в отдельных случаях представленная в исходном тексте информация не отвечает или не соответствует текущему моменту «здесь–и–сейчас» с точки зрения диахронической перспективы; 2) социальные ориентиры, система ценностей и установок, этические нормы, чьи полная смена или отдельные изменения способны вызвать интенсивное текстовое перекодирование; 3) (не) прочитывание социокультурного кода по причине близости или отдаления автора, «его» читателя и, соответственно, переводчика как первичного читателя и вторичного читателя друг от друга; 4) разный объём информации, которую текст передаёт для первичного читателя, в большинстве случаев являющегося современником автору или же сосуществующего с ним в едином информационном пространстве в отличие от вторичного читателя; 5) направленность ассоциативных реакций не только на слово, но и на символ, ситуацию, артефакт и т.д., от чего, например, зависит овнешвествление образов, репрезентируемых реалий; 6) ситуативный контекст и культурный контекст; 7) хронотоп коммуникативного события.
547 p.
Список литературы Коммуникативный фокус текста и особенности репрезентации вторичного мира текста
- Баранов А.Г. Динамическая стилистика (контекстуализм vs актуализм)//Разновидности текста в функционально-стилевом аспекте. Пермь: Пермский гос. ун-т, 1994. С. 19-29.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 тт. СПб.: ТОО «Диамант», 1996.
- Динсмор Дж. Ментальные пространства с функциональной точки зрения//Язык и интеллект. М.: «Прогресс», 1995. С. 385-411.
- Налимов В.В. В поисках иных смыслов. М.: Прогресс, 1993. 280 с.
- Устин А.К. Генетика текста -генетика культуры. СПб.: «SuperMax», 1995. 80 с.
- Lamprecht R. Rekonstruktive Zuge in der Textrezeption//Kommunikativ-funktionale Sprachbetrachtung. Halle-Wittenberg, 1989. S.116-119.
- Miall D.S., Kuiken D. Foregrounding, defamilization, and affect: Response to literary stories//Poetics. 1994. Vol. 22. Pp. 389-407.
- The Concise Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford: Oxford Univ. Press, 2003. 547 p.