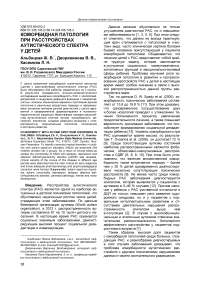Коморбидная патология при расстройствах аутистического спектра у детей
Автор: Альбицкая Ж.В., Дворянинова В.В., Касимова Л.Н.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Детско-подростковая психиатрия
Статья в выпуске: 1 (90), 2016 года.
Бесплатный доступ
С целью выявления коморбидной психической патологии у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) было обследовано 204 ребенка, разделенных на 3 группы. В результате проведенного клинико-катамнестического исследования выявлена коморбидность РАС с эпилепсией, депрессией и синдромом дефицита внимания с гииерактивностью, описаны клинические варианты протекания данной патологии в различные возрастные периоды и сформированы основные критерии ранней диагностики с целью адекватной и своевременной фармакотерапии и психологопедагогической коррекции.
Расстройства аутистического спектра, аутизм, коморбидность, депрессия, эпилепсия, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, перинатальная патология, психическое и моторное развитие
Короткий адрес: https://sciup.org/14295877
IDR: 14295877 | УДК: 616.89-053.2
Текст научной статьи Коморбидная патология при расстройствах аутистического спектра у детей
Введение. Расстройства аутистического спектра (РАС) являются одной из наиболее актуальных в детской психиатрии патологией, что обусловлено неуклонным ростом числа детей, страдающих этим заболеванием. По данным Всемирной организации аутизма (World autism organization), в 2012 г. распространенность аутизма составляла 67 на 10 тысяч детского населения. В настоящее время РАС признается социально значимым заболеванием, демонстрирующим высокий процент социальной дезадаптации и инвалидизации.
Данное явление обусловлено не только улучшением диагностики РАС, но и повышением заболеваемости [1, 3, 4, 5]. При этом следует отметить, что далеко не всегда практикующий врач сталкивается с патологией в «чистом» виде, часто клиническая картина болезни бывает искажена присутствующей у пациента коморбидной патологией. Общеизвестно, что лечение детей с РАС представляет собой крайне трудную задачу, которая заключается в улучшении социальных, коммуникативных, когнитивных функций и эмоционально-волевой сферы ребенка. Проблема изучения роли ко-морбидной патологии в развитии и прогрессировании расстройств РАС у детей в настоящее время имеет особое значение в связи с высокой распространенностью данной группы расстройств в мире.
Так, по данным D. W. Spady et al. (2005), ко-морбидность психических заболеваний составляет от 13,6 до 19,8 % [11]. При этом доказано, что одновременное сосуществование двух и более нозологий приводит к утяжелению течения болезненного процесса, увеличению продолжительности лечения, а также повышает вероятность хронизации заболевания, что способствует формированию социальной дезадаптации ребенка [13]. Уровень коморбидности при РАС оценивается крайне высоко: по результатам T. Ovsanna et al. (2006), он достигает 72 % [9]. Среди сопутствующих аутизму состояний наиболее распространенными являются фобические, обсессивно-компульсивные расстройства и СДВГ [6, 8, 9, 10]. При этом было установлено, что явление множественной комор-бидности также встречается нередко – более чем у 30 % детей одновременно диагностировали несколько сопутствующих психических расстройств [9]. Не менее часто среди комор-бидных РАС заболеваний диагностируется эпилепсия, которая выявляется у пациентов с аутизмом в 5–46 % случаев [12]. Причем наличие у ребенка с РАС умственной отсталости и ДЦП не только повышает риск развития судорожного синдрома, но и у пациентов с нормальным интеллектуальным развитием и отсутствием двигательных нарушений распространенность эпилепсии выше, чем в популяции [2]. В случае с высокофункциональным и атипичным аутизмом отмечена значительная распространенность биполярного аффективного расстройства у пациентов подросткового возраста [7].
Таким образом, высокая доля пациентов с коморбидной патологией среди больных, страдающих РАС, и разнообразие диагностируемых в этих случаях заболеваний доказывает, что проблема коморбидности аутистических расстройств с другими психическими нарушениями далека от своего окончательного разрешения.
Детальное изучение этого вопроса может способствовать более глубокому пониманию этиологических и патогенетических механизмов развития аутизма, а также имеет важное значение для правильного подбора терапевтической тактики, оценки прогноза заболевания и выбора методов психолого-педагогической коррекции с целью улучшения социализации и жизни таких детей и их родителей.
Целью исследования явилось изучение коморбидных расстройств психики при расстройствах аутистического спектра, а также исследование роли патологии психической сферы в формировании и прогрессировании данного вида расстройств для разработки дифференцированных и специализированных патогенетически обоснованных терапевтических стратегий.
Материалы и методы исследования. Проведено клинико-катамнестическое исследование 204 пациентов в возрасте от 3 до 10 лет с установленным диагнозом РДА. Длительность катамнеза составила 10±2,5 года. В группах наблюдения оценивались отягощающие факторы акушерско-гинекологического анамнеза, перинатальная патология, степень выраженности основных психопатологических симптомов и коморбидных психических расстройств .
Результаты и обсуждение. На основании проведенного исследования выделены 3 группы, в которых коморбидная патология была представлена в наибольшем процентном отношении. Чаще всего при обследовании выявлялась коморбидность РАС с эпилепсией (64 ребенка – 31,3 %), депрессивными расстройствами (98 детей – 48 %) и синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (42 пациента – 20,7 %).
В 1-й группе детей (64 ребенка), одновременно страдающих РАС и эпилепсией, все они являлись инвалидами детства. Наличие двух заболеваний приводило к изменению клинической картины, течения, прогноза и подходов к терапии, что требовало эффективного взаимодействия невролога и психиатра. У всех детей в анамнезе наблюдалась перинатальная патология в виде угрозы прерывания беременности, внутриутробной гипоксии, асфиксии в родах, преждевременные и оперативные роды и другая патология. Дети чаще рождались недоношенными (13,2 %), путем кесаревого сечения (33,4 %), у их матерей отмечались стремительные (21,8 %) либо затяжные (24,1 %) роды. Наследственность по эпилепсии была отягощена в 3,6 % случаев. 19,8 % родителей детей имели неврологическую патологию. Дебют эпилепсии приходился на возраст 1,5—2 года. Кроме того, у всех детей наблюдались эпилептические припадки (в анамнезе или по настоящее время).
В нашем исследовании диагноз эпилепсии был подтвержден неврологом после необходимого обследования, в том числе ЭЭГ. У части детей приступы начались уже до года, но у большинства из них присоединились в возрасте после 2 лет. В общей картине нарушений в данной группе больных на первый план выступали моторные нарушения. Двигательные расстройства обнаружены в 90 % случаев. До 1 года (при присоединении эпилептических приступов) имело место значительное запаздывание в формировании реакций выпрямления, равновесия, зрительно-моторной координации, отмечалось позднее угасание безусловных рефлексов и отсутствие своевременного появления новых. У 34,6 % детей особенно поздно (с отставанием на 4—6 месяцев от возрастной нормы) появлялись первые целенаправленные движения, дети на могли самостоятельно садиться, ползать, менять положение тела.
В дальнейшем, при овладении навыками ходьбы (у 82,7 % первые шаги появлялись после 1,5 лет), у детей сохранялась моторная неловкость, нарушение равновесия, невозможность стоять на одной ноге. Особое место в структуре психического недоразвития занимали нарушения речи, которые в случае тяжелого поражения головного мозга и частых припадков отражали глубину интеллектуального дефекта. Отставание составляло от 2 до 4 лет, особенно провоцировало коммуникативные нарушения, отгороженность от сверстников и нарушение восприятия. При этом наблюдались выраженная социальная дезадаптация и выраженный гиперкинетический синдром. В дошкольном и раннем школьном возрастах при исследовании когнитивной сферы особенно страдало логическое, опосредованное запоминание, ослабление переработки слуховых, зрительных и тактильных импульсов.
Кроме того, все дети с диагнозом РАС и эпилепсии имели нарушения интеллекта, соответствовавшие умеренной либо тяжелой степени умственной отсталости (F71—72 по МКБ-10). Сочетание аутизма с эпилепсией являлось фактором, значительно утяжеляющим развитие, адаптацию и социализацию данной группы детей, так как, несмотря на проводимое лечение, при каждом новом приступе отмечался значительный регресс в психическом развитии детей.
2-я группа (98 детей) была представлена коморбидностью РДА и депрессивных расстройств. Анализ патогенетических условий формирования депрессии у детей с РДА показал значительную взаимосвязь наследственных, биологических и социально-средовых факторов.
Во 2-й группе отмечалось отягощение наследственности у родственников по алкоголизму (11,7 %), невротическим расстройствам (16 %), депрессии (28,1 %), шизофрении (7,2 %), другим психическим расстройствам (37 %), среди которых в 2 % случаев у одного из родителей выявлены случаи суицида. Патология перинатального периода отмечена в 46,5 % случаев. Дети данной группы (68,4 %) воспитывались в неполной семье. 79,2 % детей практически не посещали детские дошкольные учреждения, в связи с чем в дальнейшем в сочетании с выраженными признаками аутизма имели место значительные трудности адаптации. Клиническая картина депрессивных нарушений у детей характеризовалась изменчивостью симптоматики в зависимости от возраста. Так, ранний возраст (от 3 до 5 лет) характеризовался такими клиническими проявлениями, как тоскливое настроение, плаксивость, отсутствие улыбки и смеха, отсутствие прибавки массы тела при нормальном аппетите. Поведение таких детей отмечалось равнодушием, малоподвижностью, отсутствием игровой деятельности, рудиментарными рефлексами (сосание пальцев, предметов, одежды). Было отмечено, что такое состояние длилось на протяжении 1,5—2 месяцев и усиливалось в осенне-весенние периоды. В дошкольном и раннем школьном возрастах у них выявлено присоединение астеноневротического и ипохондрического синдромов. Отмечались замедление походки, возврат к старым игрушкам, повышенная слезливость, внезапно сменяющаяся беспричинными приступами агрессии и аутоагрессии. В этом же возрасте появлялись постоянные однообразные соматические жалобы на боли в животе, головные боли и боли в нижних конечностях (при обследовании патология выявлена не была). В начальном школьном возрасте усиливались замкнутость и безразличие к окружающему, дети часто сидели без движения, пребывая в одной позе длительное время, смотрели в одну точку, не реагировали на общение. В дальнейшем у детей встречались аффективные нарушения, ведущими из которых являлись дисфория (74,8 %), симптомы апатико-абулического синдрома (26,5 %), а также наблюдались расстройства волевой сферы, слабость побуждений, пассивность, усиление примитивных влечений. Практически у 90 % детей отсутствовало желание идти на контакт, при общении они использовали плач или агрессию. Только 7 % детей проявили заинтересованность при попытке взрослых установить контакт. У всех исследованных детей данной группы была выражена очаговая неврологическая симптоматика. Динамическое наблюдение за детьми показало тесную связь депрессивных нарушений с задержками развития и усилением проявлений аутизма.
В 3-й группе детей (РДА и СДВГ) коморбид-ность данных расстройств отчетливо проявилась в дошкольном и раннем школьном возрастах (6—8 лет). Нами отмечено, что у детей с РАС гиперактивность, дефицит внимания, импульсивность были клинически более выраженными, чем в других группах. Изучение анамнестических данных детей с РАС и СДВГ позволило выявить высокий процент перинатальной патологии (91,2 %). У матерей детей данной группы имели место роды позднее 42 недель (14,7 %), стимулированные (28,0 %) и затяжные (39,1 %), внутриутробная гипоксия плода (57,3 %), родовые повреждения головного мозга и шейного отдела позвоночника (37,3 %).
Раннее развитие также имело свои особенности, к которым можно отнести громкий плач в первые месяцы жизни, двигательную растор-моженность в возрасте 4—12 месяцев, нарушение ночного сна, кратковременный и прерывистый дневной сон, постоянное беспокойство и эмоциональное возбуждение. В 26,5 % случаев отмечалось ускоренное развитие моторных навыков (при наличии повышенных рефлексов), раннее сидение, ползание, первые шаги (с опережением на 1—2 возрастных срока). У 50,2 % детей даже при отставании в формировании двигательных и психических функций в первые 3—6 месяцев к возрасту 9—12 месяцев развитие соответствовало нормальным возрастным параметрам, а в 13,1 % случаев задержка развития преимущественно относилась к мелкой моторике и возникала на фоне мышечной гипотонии и гипертонии, имевшей регредиентный характер.
Речевое развитие до 1,5 лет у 31,6 % детей было ускоренным, но затем происходила резкая остановка в развитии речи и в дальнейшем, в возрасте 4—6 лет, сохранялись нечленораздельное произношение и быстрая речь, состоящая из стереотипного повторения простых слов. Особенностью речевого развития детей данной группы являлось то, что развитие пред-речевого этапа (формирование лепета, гуления, произнесение первых слогов) в большем проценте случаев (87,2 %) не отставало от возрастных сроков, в то время как в группе детей с РДА, коморбидных с эпилепсией и депрессивными расстройствами, эти этапы отсутствовали или начинались со значительным опозданием и были выражены незначительно.
По мере взросления на первое место выступали гиперактивность, хаотичная и нецеленаправленная деятельность, гипервозбудимость, усиление стереотипной моторной двигательной активности. В 77 % наблюдений занятия с такими детьми в возрасте 5—7 лет были практически невозможны, так как дети не могли сидеть, постоянно вскакивали, кричали, бегали по помещению, не обращали внимания на голос человека, не выполняли простые инструкции. У 42 % детей отмечалась измененная реакция на окружающее в виде выраженной агрессии, негативизма, постоянных криков и повышенной чувствительности к громким звукам и внешним раздражителям. На протяжении всего периода наблюдения у большинства детей (85 %) сохранялись расстройства сна, выражавшиеся в трудностях засыпания, прерывистом и беспокойном сне с частыми пробуждениями, криками, нарушением ритма «сон - бодрствование».
Особенностью данной группы больных являлась тенденция к дальнейшему прогрессированию из-за выраженной и трудно купируемой гиперактивности с образованием более сложных и тяжелых симптомокомплексов. Общий уровень социальной адаптации у 80 % пациентов с РДА в сочетании с СДВГ на момент наблюдения оказался ниже, чем у детей из групп РДА, коморбидных с эпилепсией и депрессией.
Выводы. В ходе проведенных исследований установлен высокий процент коморбидно-сти РАС с эпилепсией, депрессивными расстройствами и синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. Полученные результаты свидетельствуют о том, что чем глубже степень поражения при сопутствующей патологии, тем более выражена степень тяжести основного заболевания (РАС в нашем исследовании).
При сравнительном изучении основных психопатологических симптомов и клинических проявлений РАС в разных группах установлено, что при наличии у детей с РАС коморбидной патологии степень проявления признаков аутизма и резистентность к терапии нарушений психической и эмоционально-волевой сфер различна в каждой группе.
Максимальные трудности в подборе фармакотерапии и методов психолого-педагогической коррекции выявлены в группе детей с РДА и СДВГ, так как у них отмечалась высокая степень резистентности к терапии, что значительно осложняло социальную адаптацию и утяжеляло проявления аутизма.
Наиболее благоприятным для развития и социализации детей оказалась коморбид-ность РДА с депрессивными нарушениями. При оптимальном подборе терапии (нейролептики и антидепрессанты, раннее профилактическое начало лечения до периодов обострения в осенне-весеннее время) отмечалась положительная динамика в психическом развитии и социальной адаптации детей. Выявленные особенности формирования депрессивных состояний при РАС, знание клинических особенностей протекания таких состояний позволило разработать программу ранней психиатрической помощи с целью снижения негативных последствий влияния депрессии на утяжеление проявлений аутизма и профилактики сезонных обострений.
В группе детей с РДА и эпилепсией выявлено, что аутистические черты в поведении, нарушения социальной адаптации, коммуникации, усиление моторных стереотипий происходит при обострении основного заболевания, а именно при учащении и утяжелении эпилептических припадков. В связи с этим ведущее значение в решении этой проблемы имеет тесное взаимодействие детского психиатра и невролога-эпилептолога с целью подбора эффективных и адекватных методов медикаментозной терапии.
Таким образом, в результате исследования установлено, что своевременное выявление и лечение коморбидной патологии у больных с РАС может привести в итоге к улучшению адаптационных возможностей, постепенному развитию речевых функций, улучшению коммуникативных навыков и социального взаимодействия у детей.
Список литературы Коморбидная патология при расстройствах аутистического спектра у детей
- Бородина Л. Г. Лекарственная терапия расстройств аутистического спектра у детей: опыт зарубежных психофармакологов//Аутизм и нарушения развития. -2012. -№ 4 (39). -С. 1-18.
- Воронкова К. В., Холин А. А., Пылаева О. А. Эпилепсия и аутизм//Аутизм и нарушения развития. -2012. -№ 2. -С. 1-17.
- Новосёлова О. Г., Каркашадзе Г. А., Журкова Н. В., Маслова О. И. Перспективы диагностики расстройств аутистического спектра//Вопросы современной педиатрии. -2014. -Т. 13, № 3. -С. 61 -68.
- Филиппова Н. В., Барыльник Ю. Б. Эпидемиология аутизма: современный взгляд на проблему//Социальная и клиническая психиатрия. -2014. -Т. 24, № 3. -С. 96-101.
- Baron-Cohen S., Scott F. J., Allison C. et al. Prevalence of autism-spectrum conditions: UK school-based population study//Br. J. Psychiat. -2009 -V. 194 (6). -P. 500-509.
- van Steensel F. J. A., Bögels S. M., de Bruin E. I. Psychiatric Comorbidity in Children with Autism Spectrum Disorders: A Comparison with Children with ADHD//J. Child. Fam. Stud. -2013. -Apr. -V. 22 (3). -Р. 368-376.
- Munesue T., Ono Y., Mutoh K. et al. High prevalence of bipolar disorder comorbidity in adolesœnts and young adults with high-functioning autism spectrum disorder: a preliminary study of 44 outpatients//J. Affect Disord. -2008. -V. 111. -P. 3170-3175.
- Muris P., Steerneman P., Merckelbach H., Holdrinet I., Meesters C. Comorbid anxiety symptoms in children with pervasive developmental disorders//J. Anxiety Disorders. -1998. -V. 12. -Р. 387-393.
- Leyfer O. T., Folstein S. E., Bacalman S., Davis N. O., Dinh E., Morgan J., Tager-Flusberg H., Lainhart J. E. Comorbid Psychiatric Disorders in Children with Autism: Interview Development and Rates of Disorders//J. Autism Dev. Disord. -2006. -V. 36. -Р. 849-861.
- Rumsey J. M., Rapoport J. L., Sceery W. R. Autistic children as adults: Psychiatric, social, and behavioral outcomes//Journal of American Academy of Child Psychiatry. -1985 -V. 24. -Р. 465-473.
- Spady D. W., Schopflocher D., Svenson L. et al. Medical and Psyctiatric Comorbidity and Health Care Use Among Children 6 to 17 Years Old//Arch. Pediatr. Adolesc. Med. -2005. -Р. 231-237.
- Spence S. J., Schneider M. T. The role of epilepsy and 2. epileptiform EEGs in autismspectrum disorders//Pediatr Res. -2009. -Jun. -V. 65 (6). -Р. 599-606.
- Tai D., Dic P., To T. еt al. Development of Pediatric Com-3. orbidity Prediction Model//Arch. Pediatr. Adolesc. Med. -2006. -Р. 293-299.