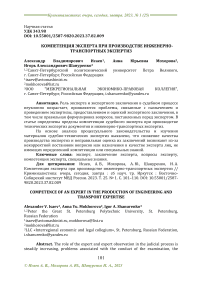Компетенция эксперта при производстве инженерно-транспортных экспертиз
Автор: Исаев Александр Владимирович, Мохорова Анна Юрьевна, Шануренко Игорь Александрович
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 1 (25), 2023 года.
Бесплатный доступ
Роль эксперта и экспертного заключения в судебном процессе неуклонно возрастает, проявляются проблемы, связанные с назначением и проведением экспертизы, предоставлением и оценкой экспертного заключения, в том числе правильная формулировка вопросов, поставленных перед экспертом. В статье определены пределы компетенции судебного эксперта при производстве технических экспертиз документов и инженерно-транспортных экспертиз. На основе анализа процессуального законодательства и изучения материалов судебно-технических экспертиз выявлено, что снижение качества производства экспертиз и неправильная оценка их заключений возникают из-за некорректной постановки вопросов или назначения в качестве эксперта лиц, не имеющих определенной компетенции или специальных знаний.
Эксперт, заключение эксперта, вопросы эксперту, компетенция эксперта, специальные знания
Короткий адрес: https://sciup.org/143179951
IDR: 143179951 | УДК: 343.98 | DOI: 10.55001/2587-9820.2023.37.82.009
Текст научной статьи Компетенция эксперта при производстве инженерно-транспортных экспертиз
Роль эксперта в судебном процессе постоянно возрастает, изменяются требования и к самому субъекту экспертной деятельности, и к порядку его привлечения в процесс. На повестке дня возникли такие вопросы, которые связаны с доверием суда и участников процесса к экспертным выводам, формирующимся на основе «субъективного научного суждения эксперта» [1, c. 1289]; возможностью однозначно оценивать и понимать изложенное в заключении мнение эксперта, определяющаяся трудностями «общения с экспертами способом, не только соответствующим науке, но и понятным лицам, оценивающими доказательства» [2, с. 37], ведь «заключение эксперта должно удовлетворять основному требованию – быть понятным судье или следователю» [3, с. 35]. Остро обсуждается вопрос требований, предъявляемых эксперту. Выделяются такие условия как «беспристрастность, независимость и отсутствие предвзятости» [4, c. 364], «научная обоснованность и надежность» [5, c. 521], разрабатываются имитационные модели «нейтрального эксперта» [6]. При этом заключение эксперта сохраняет свою значимость как одно из важнейших видов доказательств, поэтому «проблемы правового и профессионального статуса судебного эксперта приобрели особую остроту» [7, с. 16].
При назначении экспертизы крайне важным является формулирование вопросов, на которые эксперт будет отвечать [8, 9]. Несомненно, существует понятие «экспертной инициативы»1, но и ее далеко не всегда можно применить, да и само понятие требует
«регламентации … с указанием ее четких пределов… с учетом принципов законодательной техники, процессуальной экономии, четкости и однозначности правовых положений» [10, с. 33]. Поэтому эксперт вынужден отвечать на те вопросы и в той формулировке, как их поставили, – даже если вопросы сформулированы не лучшим образом. В отдельных случаях эксперт вправе уточнить редакцию вопросов в своем заключении или указать, в какой формулировке он понимает тот или иной вопрос, но этот способ имеет ограниченное применение.
В рамках арбитражного и гражданского процессов суд при решении вопроса о назначении экспертизы может привлечь специалиста (например, для дачи консультации по вопросу о возможности проведения экспертизы, формулирования вопросов эксперту)2. Это представляется логичным и обоснованным, так как, не обладая специальными знаниями, судья не всегда может правильно сформулировать вопросы эксперту, что впоследствии повлечет за собой назначение дополнительной или повторной экспертизы. В качестве одного из вариантов авторы предлагают при направлении судом запроса в экспертные организации о возможности проведения экспертизы ставить перед экспертом только примерные вопросы, предлагая эксперту самому написать правильные формулировки.
Вопросы права и правовых последствий оценки доказательств не могут быть поставлены перед экспертом. При этом в целях установления содержания норм иностранного права суд может обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснением в компетентные органы или организации, привлечь специалиста либо эксперта3.
Перед экспертом могут быть поставлены вопросы о содержании норм иностранного права, а не о правовой оценке отношений сторон и представленных доказательств, например о действительности спорного договора. Однако заключение о содержании норм иностранного права, подготовленное лицом, обладающим специальными познаниями в данной области, не является экспертным заключением по смыслу статей 55, 82, 83, 86 АПК РФ, и правила о назначении экспертизы не распространяются на подобного рода заключения4.
Существующая судебная практика, в том числе апелляционных и кассационных инстанций, исходит из того, что в большинстве случаев вышестоящие суды придерживаются той позиции, что определение о назначении судебной экспертизы может быть обжаловано только в части приостановления и распределения судебных расходов, так как таким определением никаких препятствий для движения дела не создается. Сходный подход намечен и
Верховным Судом Российской Федерации5.
Материалами исследования являются дела, рассмотренные судами, органами следствия и дознания, в рамках которых назначались и проводились такие экспертизы за период с 2017 по 2021 г.
Методами исследования выступают: анализ процессуального законодательства, подзаконных нормативных правовых актов, определяющих компетенцию судебного эксперта при проведении экспертизы, назначенной уполномоченным органом; изучение материалов судебно-технических экспертиз на предмет соответствия вопросов к эксперту требованиям законодательства и его компетенции.
Основная часть
Эксперту надлежит в процессе производства экспертизы давать заключение в пределах своей компетенции и специальных знаний6. Ст. 2 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности»7 указанные специальные знания ограничены областями науки, техники, искусства или ремесла. Юридическое содержание понятия «компетенция» включает в себя различные элементы: права, обязанности и полномочия, закрепленные нормативными правовыми актами. Также в нее включаются те специальные знания в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, методике и практике, которые необходимы для проведения экспертизы определенного вида [11].
В теории принято разграничивать объективную и субъективную компетенцию эксперта. Объективная компетенция отражает тот набор знаний, умений и навыков, которым это лицо должно обладать, а субъективная компетенция характеризует индивидуальную степень владения познаниями в определенной области конкретного эксперта.
Субъективную компетенцию часто называют компетентностью эксперта. Она определяется его образовательным уровнем, специальной экспертной подготовкой, стажем экспертной работы, опытом в решении аналогичных экспертных задач, индивидуальными способностями [12].
Исходя из нормативных правовых актов и доктринальных источников, можно выделить три уровня компетенции эксперта. Процессуальная компетенция закреплена в законодательных актах и предполагает установление определенного объема прав и обязанностей эксперта при проведении экспертиз в рамках уголовного, гражданского, арбитражного и административного судопроизводства. В зависимости от требований нормативных правовых актов процессуальная компетенция может иметь определенные различия. Процессуальная компетенция связана и с требованиями, которые могут предъявляться к лицу, которое назначается уполномоченным органом для проведения экспертизы.
Научная компетенция эксперта связана обычно с родом (видом) экспертиз и теми специальными знаниями, которые требуются для их осуществления. Установление научной компетенции эксперта важно для признания заключения эксперта допустимым источником доказательств. Так, эксперту в области инженерно-транспортных экспертиз необходимо владеть нормативной базой, в соответствии с которой выполняются служебные расследованная на транспорте. К основным из них относятся
«Положение о порядке расследования аварий или инцидентов на море»8 и «Положение о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»9. Если в процессе профессиональной деятельности инженер путей сообщения может участвовать в служебном расследовании как представитель субъекта железнодорожного транспорта (и, следовательно, определять наличие/отсутствие нарушений правил и инструкций), то почему он не может делать то же самое в качестве эксперта?
Индивидуальная компетенция эксперта или компетентность характеризует уровень образованности конкретной личности. По мнению авторов, назначение в качестве экспертов лиц, не имеющих практического опыта поездной работы, недопустимо и однозначно приводит к экспертным ошибкам [13].
Чтобы ответить на вопрос «Какова причина смертельного травмирования гр. N, произошедшего на таком-то пикете такого-то километра, такого-то перегона», эксперт-транспортник, на наш взгляд, должен иметь медицинские знания как минимум на уровне спасателя или санитарного инструктора, чтобы работать с заключением судебно-медицинской экспертизы и с фототаблицей (приложением к протоколу осмотра места происшествия). Это необходимо для того, чтобы определить, как было ориентировано тело пострадавшего в момент контактного взаимодействия с подвижным составом. Весьма полезно, чтобы эксперт- транспортник имел специальные знания и в области трасологии, чтобы корректно описать механизм контактного взаимодействия тела пострадавшего и подвижного состава.
Именно компетенция эксперта определяет, насколько объективным, всесторонним, полным и достоверным будет экспертное заключение. К сожалению, многие вопросы компетенции эксперта (например, наличие у железнодорожно-транспортного эксперта опыта управления подвижным составом) не получили должного правового и процессуального обоснования. В результате экспертизы по происшествиям на железнодорожном транспорте зачастую назначаются экспертам из «некабинного состава» [14], что повышает вероятность ошибки эксперта при исследовании действия локомотивной бригады.
При назначении экспертизы и постановке вопросов для эксперта, необходимо учитывать наличие определенных категорий вопросов, которые не могут быть поставлены перед экспертом. К ним относятся вопросы права и правовых последствий оценки доказательств. Примером такого вопроса является: «Правильно ли было произведено субъектом железнодорожного транспорта служебное расследование? Верны ли его выводы?»
Постановка эксперту вопросов правового характера и предоставление ответов на них противоречат сути и задачам судебной экспертизы и являются грубым нарушением процессуальных норм. Область применения специальных знаний судебного эксперта (а судебный эксперт – носитель специальных знаний в области науки, техники, искусства и ремесла) исключает оценку действий дознавателя, следователя и суда по организации раскрытия и расследования преступлений, принятию правовых решений (юридических оценочных суждений) по рассматриваемому им событию.
Организация служебных расследований (внутренних проверок) – это законное право и обязанность, но в любом случае эта проверка по своим юридическим последствиям не может быть отождествлена с досудебной проверкой органами СК, МВД и т.п. Исходя из этого, вышеприведенный вопрос, а также вопросы оперативнорозыскного и справочного характера не могут быть поставлены на рассмотрение эксперта.
Так, Определением Арбитражного суда Костромской области от 04.02.2019 по делу № А31-13701/201810 была назначена автотехническая экспертиза, и перед экспертом поставлены следующие вопросы:
-
1. Была ли возможность у водителей М. и Д. избежать ДТП с учетом погодных условий и характера движения транспортных
-
2. Каковы основная причина и виновник ДТП?
-
3. Отвечало ли правилам дорожного движения состояние дороги в месте ДТП?
-
4. Мог ли водитель автомобиля МАЗ при выбранной скорости двигаться без возникновения заноса?
-
5. Какое расстояние было в момент возникновения заноса между транспортными средствами?
-
6. Отвечали ли действия водителей столкнувшихся транспортных средств правилам дорожного движения? Было ли нарушение пункта 10.1 ПДД водителями автомобилей?
средств? Были ли данные действия безопасны и целесообразны?
Очевидно, что вопрос о безопасности и целесообразности действий слишком широкий и не очень корректный для эксперта. К тому же, здесь суд не указывает, какие именно действия должен оценить эксперт, что должно повлечь за собой отказ эксперта в ответе на данный вопрос. Некорректен вопрос и о виновнике ДТП, так как эксперт не может устанавливать виновность того или иного лица – это вопрос права, а не факта.
Вопрос о том, отвечало ли правилам дорожного движения состояние дороги в месте ДТП, также является некорректным, так как требования к состоянию дороги регламентируются не только ПДД, но и другими нормативными актами. Слишком широким является вопрос о соответствии действий водителей ПДД, и абсолютно некорректным – вопрос о нарушении водителями пункта 10.1 ПДД, так как эксперта опять вынуждают ответить на вопрос о виновности лица.
Вместе с тем нередко судьи ответственно подходят к постановке вопросов перед экспертом, как, например, это было сделано в Определении арбитражного суда
Псковской области от 20.05.2020 по делу № А52-5026/201811. Здесь вопросы были сформулированы по канонам: «Соответствует ли дата выполнения оттиска печати на договоре беспроцентного займа № 1 от 08.07.2003 г. дате, указанной в самом договоре л. д. 144, том 5? Если нет, то в какой период времени он выполнен»?
Каноны судебной экспертизы предусматривают требования для вопросов к эксперту:
-
- конкретика и лаконичность;
-
- логическая последовательность;
-
- использование ранее установленных фактических обстоятельств дела;
-
- недопущение выхода за пределы специальных знаний эксперта (комиссии экспертов);
-
- постановка вопросов, которые заведомо не могут быть решены при современном состоянии экспертной и криминалистической науки в Российской Федерации [12, с. 511].
В отношении последнего требования следует отметить, что направление объектов экспертизы для производства исследования в иностранные лаборатории не только противоречит экспертной этике, но и является прямым нарушением действующего законодательства в области судебной экспертизы12.
Выводы и заключение
Вышеперечисленное в своей совокупности дает все основания полагать, что определение
«интервала границ» компетенции эксперта состоит в причинноследственной связи с формулировками вопросов, поставленных перед экспертом (комиссией экспертов). В случае неправильной или некорректной постановки вопросов – а равно, как и назначения экспертом лица, не имеющего требуемой компетенции или определенных навыков
(например, опыта управления железнодорожным подвижным составом), формируется вероятность экспертной ошибки. Такая ошибка снижает профессиональный уровень производства экспертиз и в конечном итоге может привести к неправильной оценке заключения эксперта тем органом, который назначил данную экспертизу.
Список литературы Компетенция эксперта при производстве инженерно-транспортных экспертиз
- Benyounis, H. M. A. The Language of Forensic Experts: A Commentary on the Sally Clark Case 1999-2002 // Arab Journal of Forensic Sciences & Forensic Medicine. 2019. № 9(1). P. 1286-1295.
- Liden, M., Dror, I. E. Expert Reliability in Legal Proceedings: "Eeny, Meeny, Miny, Moe, With Which Expert Should We Go?" // Science & Justice. 2021. № 61(1), P. 37-46.
- Исаев, А. В. Язык судебно-технических экспертиз и криминалистики // Технологии в инфосфере: науч. журн. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет. 2021. Т. 2. № 2(3). С. 31-40.
- Beech, C. The admissibility of expert opinions in Canada courts // Law & Bus. Rev. Am. 2015. № 21. P. 361.
- Milroy, C. M. A Brief History of the Expert Witness // Academic Forensic Pathology. 2017. № 7(4). P. 516-526.
- Kim, C., Koh, P. S. Court-appointed experts and accuracy in adversarial litigation // International Journal of Economic Theory. 2020. № 16(3). P. 282-305.
- Россинская, Е. Р. О правовом статусе судебного эксперта // Вестник университета имени О. Е. Кутафина: науч. журн. Москва: МГЮА. 2018. № 7. С. 15-24.
- Чекачкова, Г. Н. Практическая значимость правильной постановки вопросов при назначении судебно-медицинской экспертизы // Наука и современность: науч. журн.: электрон. версия. Тамбов: ООО Консалтинговая компания Юком, 2010. № 2-3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prakticheskaya-znachimost-pravilnoy-postanovki-voprosov-pri-naznachenii-sudebno-meditsinskoy-ekspertizy (дата обращения: 24.01.2022). Режим доступа: свободный.
- Каемова, Ю. А. Значение правильной и точной формулировки вопросов эксперту при назначении экспертизы в судебном разбирательстве // Modern Science: междунар. науч. журн. Москва: Научно-информационный издательский центр "Институт стратегических исследований". 2020. № 5-3. С. 291-293.
- Dyakonova, O. G. The Expert Right to Submit Petitions as an Exercise Form of Expert Initiative // Theory and Practice of Forensic Science. 2019. № 14(2). 24-34.
- Ропот, Р. М. Компетенция как критерий оценки процессуальных дефектов деятельности судебного эксперта // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: междунар. науч.-практич. конф. (Минск, 26 февр. 2021 г.): тез. докл. / УО «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь»; отв. ред. П. В. Гридюшко. Минск, 2021. С. 299-301.
- Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2006. 576 с.
- Исаев, А. В., Шануренко, И. А. О некоторых вопросах компетенции эксперта // Современное состояние, проблемы и перспективы развития судебно-экспертной деятельности частных экспертов: материалы междунар. науч.-практич. конф. (Москва, 28 января 2022). под ред. Е. Р. Россинской, Н. С. Неретиной, А. К. Лебедевой. М., 2022. С. 124-128.
- Исаев, А. В., Полякова, А. С., Смирнова, Н. Г. Проблемы использования специальной терминологии в судебной железнодорожно-транспортной экспертизе: материалы междунар. науч.-практич. конф. (Москва, 26-27 января 2023) // под ред. Е. Р. Россинской, Н. С. Неретиной, А. К. Лебедевой. М., 2023. С. 12.