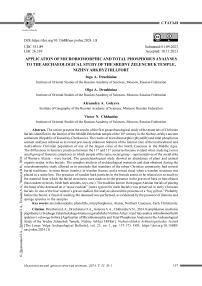Комплексное изучение погребений из Среднего Зеленчукского храма на городище Нижний Архыз: результаты анализа микробиоморфных спектров и валового фосфора
Автор: Дружинина И.А., Дружинина О.А., Гольева А.А., Чхаидзе В.Н.
Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты первого геоархеологического изучения материалов христианских погребений, выявленных в интерьере Среднего Зеленчукского храма X в. Нижне-Архызского городища (Республика Карачаево-Черкесия). Результаты микробиоморфного (фитолитного) анализа и анализа содержания валового фосфора позволили выявить ранее неизвестные особенности погребальных обрядов поликультурного и полиэтничного христианского населения одного из крупнейших городов Северного Кавказа в эпоху Средневековья. Различия бытовавших здесь в XI-XIII вв. погребальных практик стали очевидны при изучении даже небольшой группы погребальных комплексов, в которых были похоронены люди одной социальной группы - представители социальной элиты Западной Алании. Геоархеологическое исследование показало обилие растительного и животного органического вещества в погребениях. Комплексный анализ археологических материалов и данных, полученных в ходе микробиоморфного исследования, позволил сделать вывод, что у членов городской христианской общины бытовало несколько традиций захоронения: в каменных ящиках (гробницах), деревянных рамах и смешанный ритуал, когда деревянная конструкция помещалась в каменный ящик. Присутствие в погребениях частиц древесной коры, по-видимому, связано не столько с материалом, из которого изготовлены погребальные конструкции, сколько с нахождением в могилах предметов из коры или луба (лубяные шкатулки или коробочки, берестяные амулеты, игрушки). Известная еще по материалам языческих аланских захоронений традиция укладывать голову покойного на «каменную подушку» (более характерная для мужских захоронений) сохранилась и в раннехристианских погребальных практиках, при этом анализ материалов четырех женских погребений позволил сделать вывод о наличии «сенной подушки» только в одном случае. Одним из возможных объяснений наличия в некоторых образцах диатомовых водорослей и спикул губок может быть использование воды в ритуале омовения покойного перед погребением.
Микробиоморфы, фитолиты, валовый фосфор, алания, северный кавказ, раннее христианство
Короткий адрес: https://sciup.org/149145147
IDR: 149145147 | УДК: 551.89 | DOI: 10.15688/10.15688/nav.jvolsu.2024.1.8
Текст научной статьи Комплексное изучение погребений из Среднего Зеленчукского храма на городище Нижний Архыз: результаты анализа микробиоморфных спектров и валового фосфора
DOI:
Одним из ключевых событий средневековой истории Северного Кавказа, на столетия определившим основные векторы разви- тия народов и племен региона, стало принятие в начале X в. Аланией – единственным сложившимся на территории Северо-Западного и Центрального Предкавказья централизованным государством – христианства от Ви- зантийской империи. Центром христианской Алании стал специально созданный митрополичий город в среднем течении реки Большой Зеленчук, на месте которого ныне расположено Нижне-Архызское городище (Республика Карачаево-Черкесия, Россия). В границах памятника, помимо фундаментов средневековых жилых и хозяйственных построек, сохранились возведенные в X в. греческими мастерами три храма – Северный, Средний и Южный Зеленчукские. После монгольского нашествия в первой трети XIII в. город пришел в упадок. Его древнее название до сих пор остается не известным.
Изучение Нижне-Архызского городища продолжается более 150 лет. При этом большая часть изысканий на памятнике проводилась историками архитектуры, в центре внимания которых оказывались три сохранных храма – Северный, Средний и Южный Зелен-чукские, возведенные греческими зодчими в X веке. Археологические раскопки на городище проводились В.А. Кузнецовым (1960–1964, 1968–1969, 1971, 1978–1980 гг.), У.Ю. Элькано-вым (1979–1985, 1989–1990, 1992, 1995, 2001 гг.). С 2018 г. городище исследуется совместной Нижне-Архызской археологической экспедицией Института археологии РАН, Института востоковедения РАН, НИУ Высшая школа экономики и Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева (руководитель экспедиции – В.Н. Чхаидзе).
Одним из основных объектов изучения является Средний Зеленчукский храм. Его исследование началось в 1867 г., когда Н.А. Нарышкин организовал небольшие любительские раскопки в центральной апсиде, в ходе которых был обнаружен престол (?) и выложенный плитами древний цемянковый пол. В 1965 и 1980 гг. под руководством В.А. Кузнецова на отдельных участках храма была проведена шурфовка (в центральной апсиде выявлен трехступенчатый цоколь высотой 1 м, с внешней стороны у северной стены храма, прослежен строительный шов между кладками).
В 1980–1984 гг. значительная площадь храма оказалась перекопана в ходе архитектурно-обмерных работ, осуществлявшихся Проектным институтом по реставрации памятников истории и культуры: внутри и снаружи храма было заложено 27 шурфов.
В 2001 г. экспедицией Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника под руководством У.Ю. Эльканова раскопаны семь погребений в каменных ящиках с южной стороны храма [Чхаидзе, Виноградов, 2020, с. 165–166].
С 2018 г. Нижне-Архызская археологическая экспедиция проводит на памятнике комплексные научные работы, нацеленные на установление хронологии его строительства, выявление функциональной структуры и архитектурных особенностей. Отдельное направление научно-исследовательских работ связано с изучением некрополя Среднего Зе-ленчукского храма – обширного христианского могильника с погребениями в каменных гробницах снаружи храма и группы захоронений, выявленных в его внутреннем пространстве. Материалы раскопок некрополя изучаются по программе, включающей серию палеоантропологических исследований (многофакторная половозрастная диагностика погребенных, изучение палеопатологий и индикаторов физиологического стресса, в том числе с помощью микрофокусной цифровой рентгенографии, изотопный анализ мобильности, отбор образцов на палео-ДНК, реконструкция лица по черепу), которыми руководит доктор исторических наук, профессор М.Б. Медникова, а также комплекс анализов естественнонаучных дисциплин (микробиоморфный анализ, валовый фосфор, NPP). Такая программа исследований проводится на памятнике впервые, что, в свою очередь, позволяет ставить и решать широкий спектр вопросов, таких как реконструкция демографического, этнокультурного, конфессионального, профессионального портрета жителей города X – начала XIII в., установление качества и уровня жизни горожан, выявление особенностей распространения христианства в различных социальных слоях и группах городского населения [Чхаидзе и др., 2022, с. 296–298].
За 2018–2023 гг. раскопок Нижне-Архыз-ской археологической экспедицией было исследовано все внутреннее пространство храма (рис. 1). Погребения сохранились только в его западной части, а также в притворе. Настоящая публикация посвящена результатам естественнонаучных исследований образцов грунта из погребений аланской знати, вы- явленных в 2019 г. в западном рукаве Среднего Зеленчукского храма (раскоп I). Также к анализу привлекаются некоторые результаты изучения синхронных погребений (погр. 8 и 9) из некрополя у внешней стороны стен храма (раскоп 3). Образцы грунта исследовались методом микробиоморфного анализа, а также на содержание валового фосфора.
Изучение комплекса микробиоморф (микробиоморфного спектра) – фитолитов, растительного детрита, кутикулярных слепков растений, микроостатков почвенной фауны и т. д. – предоставляет широкие возможности для палеоэкологического анализа. Данная методика была разработана относительно недавно российскими исследователями [Гольева, 2008] как усовершенствованное продолжение фитолитного анализа [Голье-ва, 2001; Piperno, 2006]. Фитолиты – это кремневые слепки растительных клеток, формируемые растениями, произраставшими или использовавшимися на определенной территории. В отличие от органики, фитолиты устойчивы к разрушению и могут сохраняться в почве или культурном слое тысячи и десятки тысяч лет [Yost et al., 2018].
Материалы и методы
Нижне-Архызское городище располагается в среднем течении реки Большой Зеленчук, на ее правом берегу. Городище имеет неправильную форму, располагается вдоль реки и занимает преимущественно две террасы, верхнюю и нижнюю. С двух сторон городище ограничено рекой и хребтом Ужум, с двух других четких естественных границ нет. Искусственных укреплений город не имел. Вдоль реки городище вытянуто в длину примерно на 2,5 км, ширина памятника – 300– 500 м, общая площадь – до 65 га. Территорию городища пересекают балки речек Подорванная, Церковная и Бандитская [Кузнецов, 1993, с. 12–13].
Средний Зеленчукский храм располагается в центральной части городища. Первоначально – это купольный храм типа полусвободного латинского креста с восточными па-стофориями и тремя апсидами; после перестройки в конце XIX в. – купольный храм типа вписанного креста простого извода без сво- бодно стоящих опор, с тремя апсидами [Кузнецов, 1986, с. 237–247, рис. 1–6; Белецкий, Виноградов, 2011, с. 94–131, рис. 55–91].
В 2019 г. в ходе плановых раскопок, проводимых Нижне-Архызской археологической экспедицией, в западном рукаве храма были выявлены 6 погребений (5 – основных и индивидуальных, 1 – переотложенное, содержавшее кости двух скелетов – мужчины и женщины). Погребения совершены по обряду ингумации, умершие уложены вытянуто на спине, головой на запад. Три из пяти основных захоронений совершены в каменных гробницах, два погребения открыты в деревянных конструкциях. Захоронения выявлены на различной глубине (рис. 2). Только в двух случаях были обнаружены предметы погребального инвентаря: на запястье левой руки взрослой женщины в плитовом ящике I находился витой серебряный браслет; в детском погребении 2 были обнаружены 10 бусин в районе черепа и бронзовое зеркало в районе пояса, справа. Все основные погребения – женские, и их местонахождение указывает на то, что все они принадлежат членам семей высшей знати Алании. Подчеркнем, погребения внутри храма располагались в один ярус, тогда как в притворе храма выявлено 6 уровней захоронений, а на некрополе снаружи стен храма – 3–4 уровня, что, в свою очередь, указывает на привилегированный, особый статус погребенных в центральной части храма.
Даже на материалах этой небольшой выборки, включающей захоронения представителей одной социальной группы населения, археологически были зафиксированы отличия в использовании разных видов погребальных сооружений – более дорогих и монументальных каменных гробниц, составленных из массивных обработанных каменных плит, и более экономичных деревянных конструкций, которые фиксировались лишь по железным гвоздям, выявленным по периметру не сохранившихся гробовищ. Однако выбор погребального сооружения вряд ли был обусловлен причинами «экономического порядка». Погребение в плитовой гробнице I находилось в непосредственной близости и в одном ряду с погребениями в деревянных конструкциях, причем в одном из самых престижных с точки зрения места их расположения участков храма – почти в самом его центре. Все три погребения могут быть датированы XI веком. Между захоронением в каменной гробнице I и погребениями в деревянных конструкциях (погр. 1 и 2) особенности стратиграфии фиксируют хронологический разрыв, погребения в деревянных конструкциях совершены одновременно. При этом выбор погребальной конструкции и глубина могил не определялись также и архитектурными условиями места захоронения: при устройстве всех трех погребений была пробита южная часть основания для опор каменных хор. Такая археологическая картина поставила несколько методических вопросов. Во-первых, необходимо было установить особенности конструкции деревянных сооружений. Во-вторых, выяснить, были ли другие отличия в погребальном обряде, не фиксируемые археологически. И, в-третьих, выяснить возможную причину использования различных видов погребальных конструкций представителями городской элиты Нижнего Архыза. Отдельной исследовательской задачей стало выявление следов органики от не сохранившихся вещей, помещенных в могилы вместе с умершими. Для решения данных вопросов взяты образцы грунта из различных частей погребений, которые были исследованы в лаборатории методом микробиоморфного анализа и на содержание валового фосфора.
Проанализирован 21 образец весом по 5 г. Подготовка образцов на микробиоморфный анализ проводилась в соответствии со стандартными протоколами [Гольева, 2001; 2008]. Образцы обрабатывались горячим 30%-м раствором H2O2, отделялись от песка и глины, а затем подвергались флотации в тяжелой жидкости с удельным весом около 2,3 г/см3. Микробиоморфы исследовались под оптическим и сканирующим электронным микроскопом при увеличениях от 200 до 900 раз (Nikon Eclipse E200, JEOL 6610LV). Подсчитывались все морфотипы, обнаруженные на одном слайде. Идентификация фитолитов проведена согласно Международному коду по фитолитной номенклатуре [International Code..., 2019]. Фитолиты также были разделены на несколько биоценотических групп, таких как лесные травы, влажные луга, сухие луга, культурные злаки и т. д. в соответствии с экологической интерпретацией [Гольева, 2001; 2008].
Измерение валового фосфора включало сжигание пробы с концентрированной серной кислотой. Фосфаты в экстракте определяли калориметрически на спектрофотометре SPECOL 211 и методом синего молибдата аммония с аскорбиновой кислотой в качестве восстановителя [Воробьева, 2006].
Результаты и обсуждение
Микробиоморфный анализ позволил выделить несколько категорий микробиоморф: детрит, аморфное органическое вещество, спикулы губок, панцири диатомовых водорослей, фитолиты, пыльцу и споры растений и другие частицы (табл. 1). Рассмотрим основные из них.
Детрит и фрагменты древесной коры. Содержание детрита (растительных остатков) во всех образцах, взятых в погребениях внутри храма, невелико. Образец 2 из центральной части нижнего стратиграфического уровня женского погребения 1 практически не содержит растительных частиц, даже в минимальных количествах, что определенно указывает на специфическую конструкцию использованного при захоронении погребального сооружения, зафиксированного в ходе раскопок по находкам гвоздей, располагавшихся по периметру могилы. Несколько больше растительных частиц над головой и у шеи покойной (образец 3). Древесный детрит в образце 5 (погр. 2, детское) содержится в среднем количестве и представлен в виде мелких и средних частиц коры. При том что по периметру и этого погребения были выявлены гвозди, частицы собственно древесины в отобранных образцах грунта обнаружены не были. Фрагменты древесной коры встречаются также в образце 15 (плит. ящ. III), взятом под черепом погребенной, в области подбородка, что указывает, вероятно, на нахождение в этом месте изделия, при изготовлении которого использовалась кора. В пробах 19–21 из погребений 8, 9, расположенных снаружи храма, напротив, растительные частицы присутствуют в большом количестве, при этом древесный детрит преобладает. Крупные частицы, содержащиеся в образце 19, позволили идентифицировать древесину хвойных пород деревьев.
Спикулы губок и/или диатомовые водоросли. Эти микробиоморфы, как индикаторы повышенного гидроморфизма территории (застойного или проточного водного режима) или использования воды, обнаружены в 7 образцах из 21: № 4 (погр. 2), 13 (плит. ящ. II), 16 (плит. ящ. III), 17–18 (погр. 8), 20 и 21 (погр. 9).
Фитолиты. Количество фитолитов в образцах № 1 (погр. 1), 7–10 (плит. ящ. I), 15 (плит. ящ. III) незначительно; максимальное количество фитолитов выявлено в образцах 13 (плит. ящ. II), 18 (погр. 8), 20, 21 (погр. 9). Большинство же образцов содержат их среднее количество. Преобладание форм, характерных для луговых трав, отмечено во всех образцах, которые содержат более 15 фитолитов (табл. 1, 2, рис. 3).
Таким образом, применение методов микробиоморфного анализа и анализа валового фосфора выявило обилие растительного и животного органического вещества в погребениях. Результаты этих анализов позволяют уточнить особенности погребальных практик населения столицы Западной Алании, прежде всего, элитарной прослойки горожан.
По итогам проведенных комплексных геоархеологических исследований в погребениях, выявленных в западном рукаве Среднего Зеленчукского храма, было зафиксировано два вида погребальных конструкций. Первый – подпрямоугольные в плане каменные гробницы, составленные из плит, установленных на ребро, имеющие перекрытие и в некоторых случаях дно из плит, уложенных плашмя. Сооружение подобных каменных конструкций характерно как для древних (еще эпохи бронзы) традиционных погребальных практик представителей различных культур Кавказа, так и для христианского погребального обряда эпохи Средневековья. Погребальные конструкции второго вида зафиксированы в двух грунтовых погребениях (погребении 1 – женском и погребении 2 – детском) археологически по находкам гвоздей, выявленных по периметру могил. Полное отсутствие растительной массы в образцах из центра и небольшое их присутствие в изголовье погребения 1, а также небольшие объемы растительной органики в образце, взятом непосредственно под гвоздем, и практически аналогичная ситуация с составом и местонахождением растительных остатков в погребении 2 указывают на использование в обоих случаях конструкций не типа закрытого гроба, а деревянной рамы без дна и, возможно, без перекрытия. При этом установлено, что выбор вида погребального сооружения не был связан с архитектурными условиями участка храма, использованного как место под захоронение, так как во всех случаях при устройстве погребений и в каменных гробницах, и в деревянных рамах разбиралась часть кладок фундамента. С другой стороны, погребения с обоими видами конструкций занимали одинаково престижное место расположения в храме – почти в центре под куполом. Кроме того, в этих погребениях были выявлены останки женщин трех возрастных категорий – 5-летней девочки,
20–24-летней женщины, 40–44-летней женщины. Эти наблюдения позволяют сделать вывод, что выбор погребальной конструкции не был обусловлен и половозрастными различиями. Наиболее вероятное объяснение использованию различных погребальных сооружений мы усматриваем в принадлежности представительниц христианской светской знати, захороненных в Среднем Зеленчукском храме, различным этнокультурным группам населения крупного столичного города.
В данной связи обращает внимание практика захоронения умерших в деревянных рамах, распространенная в IX–X вв. и связываемая с болгарской этнической средой, являвшейся одним из основных (наряду с аланским населением) этнических компонентов салто-во-маяцкой археологической культуры. Такие конструкции зафиксированы, например, в Во-локоновском могильнике конца IX – X века. Они представляли собой прямоугольную раму, сложенную из четырех плах. Высота и толщина таких конструкций зависела от размеров плах – 15–65 и до 8 см. На концах длинных боковых плах вырезались пазы, куда вставлялись поперечные. Дно устилалось камышом или слоем древесного угля. Перекрытия сооружались из одной-двух уложенных вдоль досок [Плетнева, Николаенко, 1976, c. 281–282, рис. 2, 1 , 3 ]. Известны деревянные рамы и в средневековых погребальных памятниках Северного Кавказа [Дружинина, 2018, c. 172–173].
Судя по образцам древесного детрита из погребения 2 (детское, inf 5 лет), можно предположить, что в качестве материала погребальной конструкции использовалась кора, а не древесина. В Центральном Предкавказье известны редкие средневековые погребения, где умерший был обложен древесной корой или лубом (могильник у селения Эль-хотово) [Дружинина, 2018, с. 403]. Однако в случае захоронения ребенка в Среднем Зе-ленчукском храме, особенно при наличии гвоздей по периметру погребения, представляется более вероятным использование рамы, сбитой из досок. А обнаружение древесной коры может быть объяснено нахождением в погребении лубяных шкатулок [Иерусалимская, 2012, с. 338, ил. 211], амулетов или детских игрушек, изготавливав- шихся из коры, встречающихся в погребениях дохристианского периода различных народов Кавказа (адыгов, осетин, дагестанцев и др.) [Иерусалимская, 2012, с. 56, 62, 70–71, 75, 78 и др.]. Здесь отметим интересную особенность – отсутствие крестов и других предметов личного благочестия в погребениях христианских некрополей Алании. Это общая тенденция, зафиксированная по материалам и других христианских могильников [Кузнецов, 1993], которая еще требует своего объяснения (возможно, в погребения помещали деревянные кресты), хотя находки металлических крестов с территории Алании представлены в значительном количестве [Чхаидзе, 2021].
Применение фитолитного анализа выявило высокое содержание аморфного органического вещества (табл. 1) – вероятно, следов одежды и погребальных покровов. В мужских и женских погребениях скального могильника Мощевая Балка VIII–IX вв., где в условиях высокогорных районов Алании дохристианского периода великолепно сохранилась органика, в том числе мумифицированные тела умерших, прослежены травяные подстилки и шерстяные коврики, последние – как местного изготовления, так и привозные; в ряде женских погребений выявлены подушки, сшитые из льняного полотна, набитые травой, а в мужских – валики, свернутые из полотна (в одном случае – из шелка) и набитые шерстью [Иерусалимская, 2012, с. 40–41]. С практикой помещения специальных подстилок и подушек в погребения могут быть связаны результаты анализа образцов из погребений 8 и 9, исследованные снаружи Среднего Зеленчукского храма, а также из детского погребения 2 и каменных гробниц II и III во внутреннем пространстве храма.
В образцах 5 (погр. 2), 13 (плит. ящ. II), 14, 16 (плит. ящ. III), 17–19 (погр. 8), 21 (погр. 9) встречены формы, типичные для культурных злаков. Особенно много их (как в количественном, так и процентном соотношении) в образце 21, отобранном под черепом умершей (погр. 9, снаружи храма). Здесь отметим, что обнаружение значительного присутствия следов культурных злаков сразу в нескольких погребениях одного могильника стало возможным именно в результате применения фито- литного анализа. Для культурной или обрядовой интерпретации характера их использования в погребальной практике потребуются результаты, полученные на более представительной выборке. Пока же укажем на ближайшую аналогию – находку зерен культурных злаков на дне небольшого кувшинчика из языческого по своему характеру аланского погребения IX в. могильника Подорванная балка 1. Также в погребении девочки на могильнике у городища Гиляч было выявлено деревянное блюдо с зернами проса [Минаева, 1969, с. 123].
Фитолитный анализ образцов почвы из-под черепов погребенных показал интересные результаты. В трех из четырех случаев анализ не выявил наличия сенных подушек под головами женщин, так как количество фитолитов, обнаруженных в образцах, минимально и, скорее всего, связано со случайным попаданием фитолитов в почву. В одном случае (погребение 9 снаружи храма) наличие сенной подушки можно было бы предположить по очень высокому содержанию фитолитов, при этом под головой покойной находились сложенные один на другой три камня-плитняка размерами 0,18 х 0,15 х 0,03 м, 0,25 х 0,12 х 0,02 м, 0,30 х 0,15 х 0,03 м, которые составляли так называемую «каменную подушку». Сама традиция укладывать человека на «каменную подушку» прослежена в раннехристианских погребениях Нижнего Архыза: так, подобные подкладки из камней под черепами умерших, помимо погребения 9, были обнаружены и в других исследованных могилах на раскопе (погр. 7/1 и 13) снаружи Среднего Зеленчукского храма.
Обращает на себя внимание наличие в части исследованных образцов диатомовых водорослей и спикул губок, что может свидетельствовать об использовании речной воды в погребальном ритуале. Поскольку максимальное количество этих микробиоморф в подавляющем большинстве было обнаружено в нижних частях останков, одним из возможных объяснений может быть ритуал омовения покойного перед погребением.
Важные результаты были получены при анализе содержания валового фосфора. У черепа ребенка из погребения 2 находилось ожерелье из 10 бусин (стекло, паста, кость) и брон- зовое зеркало в остатках кожаного чехла. Содержание валового фосфора в образце грунта под ожерельем показало наличие животной органики – вероятно, остатков шапочки (например, из кожи или других материалов). В образце грунта из плитового ящика III, отобранном в области подбородка погребенной женщины 40–49 лет, обнаружена аномально высокая концентрация фосфора (5,42 %), что однозначно свидетельствует о наличии больших объемов животной органики. На левой руке погребенной женщины 40–44 лет в пли-товом ящике I находился серебряный витой браслет. Образец грунта из-под браслета также выявил высокую концентрацию фосфора (2,32 %), что, вероятно, указывает на наличие изделия из кожи или других материалов.
Заключение
Применение методов микробиоморфно-го анализа и анализа валового фосфора позволило выявить следы растительной и животной органики в христианских средневековых захоронениях, совершенных в интерьере и снаружи Среднего Зеленчукского храма. Наличие в исследованных образцах частиц древесного детрита позволило сделать вывод, что внутри храма погребения производились не только в плитовых ящиках, но и деревянных рамах 2. Обнаружение частиц древесной коры в погребениях связано, видимо, не с материалом изготовления погребального сооружения, а с нахождением в могилах предметов из коры или луба, часто встречающихся в аланских захоронениях языческого периода – лубяных шкатулок или коробочек, амулетов из коры и не обработанных палочек различных пород деревьев, прежде всего лещины. В этой связи, а также с учетом нахождения в погребении пятилетней христианки (раскоп I, погр. 2) зеркальца в кожаном чехле, шапочки, расшитой бусинами, имеющими апотропеическое значение, следы коры, позволяющие проводить параллели с языческими амулетами населения дохристианской Алании, по-видимому, указывают на переходный от язычества к христианству характер верований членов семьи ребенка и косвенно подтверждают раннюю дату погребения – XI век. На материалах погребений, раскопанных снаружи храма, была прослежена традиция укладывать голову умершего на «каменную подушку», известная у алан с дохристианского времени, при этом остатки «сенной подушки» удалось зафиксировать только в одной женской могиле (раскоп 3, погр. 9) из четырех исследованных. Наличие в определенных образцах панцирей диатомовых водорослей и спикул губок как индикаторов использования воды может свидетельствовать о том, что перед погребением проводился ритуал омовения покойного.
Таким образом, результаты микробио-морфного анализа и анализа валового фосфора позволили уточнить целый ряд особенностей погребальных обрядов, практиковавшихся у представителей поликультурного и полиэтничного населения одного из самых крупных городов Северного Кавказа эпохи Средневеко- вья. Различие в погребальных обрядах удалось проследить даже на материалах небольшой выборки погребений, принадлежавших представителям одной социальной прослойки – светской элиты столицы Западной Алании, к тому же христианизированной.
Список литературы Комплексное изучение погребений из Среднего Зеленчукского храма на городище Нижний Архыз: результаты анализа микробиоморфных спектров и валового фосфора
- Агаджанян Н. А., Скальный А. В., Березкина Е. С., Демидов В. А., Грабеклис А. Р., Скальная М. Г., 2016.
- Референтные значения содержания химических элементов в волосах взрослых жителей республики Татарстан // Экология человека. № 4. С. 38–44.
- Белецкий Д. В., Виноградов А. Ю., 2011. Нижний Архыз и Сенты – древнейшие храмы России. Проблемы христианского искусства Алании и Северо-Западного Кавказа. М.: Индрик. 392 с.
- Воробьева Л. А., 2006. Теория и практика химического анализа почв. М.: ГЕОС. 418 с.
- Гольева А. А., 2001. Фитолиты и их информационная роль в изучении природных и археологических объектов. М.; Сыктывкар: Элиста. 120 с. + LXXXIV табл.
- Гольева А. А., 2008. Микробиоморфные комплексы природных и антропогенных ландшафтов: Генезис, география, информационная роль. М.: ЛКИ. 240 с.
- Дружинина И. А., 2018. Погребальные памятники Северо-Восточного Причерноморья и Северного Кавказа XIII–XVIII вв. как источник по истории адыгских народов: дис. ... канд. ист. наук. М. 622 с.
- Иерусалимская А. А., 2012. Мощевая Балка. Необычный археологический памятник на Северокавказском шелковом пути. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. 384 с.
- Кузнецов В. А., 1986. Нижне-Архызское городище X–XII вв. – раннефеодальный город Алании (историко-географическая характеристика и некоторые итоги исследования) // Новое в археологии Северного Кавказа. М.: Наука. С. 230–247.
- Кузнецов В. А., 1993. Нижний Архыз в X–XII веках. К истории средневековых городов Северного Кавказа. Ставрополь: Кавказская библиотека. 464 с.
- Минаева Т. М., 1969. Раскопки городища Гиляч // Археологические открытия 1968 года. М.: Наука. С. 123–124.
- Плетнева С. А., Николаенко А. Г., 1976. Волоконовский древнеболгарский могильник // Советская археология. № 3. С. 279–298.
- Чхаидзе В. Н., 2021. Кресты Алании (X–XIII вв.) // Белецкий Д. В., Виноградов А. Ю. История и искусство христианской Алании. М.: Таус. С. 282–298.
- Чхаидзе В. Н., Виноградов А. Ю., 2020. Средний Зеленчукский храм на Нижне-Архызском городище. Раскопки 2018–2019 гг. // Христианство в археологических и письменных источниках: материалы IX Междунар. науч. конф. по церковной археологии. Симферополь: Антиква. С. 164–168.
- Чхаидзе В. Н., Бабенко А. Н., Гольева А. А., Дружинина И. А., Медникова М. Б., 2022. Некрополь Среднего Зеленчукского храма: результаты комплексных исследований материалов раскопок 2019 г. // Древние и средневековые культуры Кавказа: открытия, гипотезы, интерпретации. XXXII Крупновские чтения: материалы Междунар. науч. конф. по археологии Северного Кавказа, посвящ. 125-летию раскопок Майкопского кургана. Майкоп: Качество. С. 296–298.
- International Code for Phytolith Nomenclature (ICPN) 2.0, 2019 // Annals of Botany. № 124 (2). Р. 189–199. DOI: 10.1093/aob/mcz064
- Piperno D., 2006. Phytoliths. A Comprehensive Guide for Archaeologists and Paleoecologists. Lanham, New York, Toronto, Oxford: AltaMira Press (Rowman & Littlefield). 238 p.
- Yost С., Jackson L. J., Stone J. R., Cohen A. S., 2018. Subdecadal Phytolith and Charcoal Records from Lake Malawi, East Africa Imply Minimal Effects on Human Evolution from the ~74 ka Toba Supereruption // Journal of Human Evolution. Vol. 116. P. 75–94. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2017.11.005