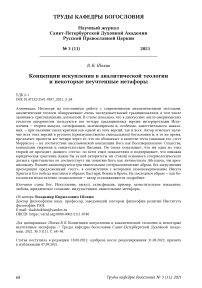Концепции искупления в аналитической теологии и некоторые неучтенные метафоры
Автор: Шохин Владимир Кириллович
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Философия религии и религиоведение
Статья в выпуске: 3 (11), 2021 года.
Бесплатный доступ
Несмотря на постоянную работу с современными аналитическими методами, аналитические теологи обнаруживают очень последовательный традиционализм, в том числе занимаясь христианскими догматами. В статье показано, что в дискуссиях англо-американских теологов авторитетом пользуются все четыре традиционных версии интерпретации Искупления - теории выкупа, сатисфакции, экземпляризма и, особенно, заместительного наказания, - при наличии также критики как одной из этих версий, так и всех. Автор отмечает наличие всех этих версий в русском (преимущественно синодальном) богословии и, в то же время, предлагает провести все четыре через то, что он обозначает в качестве теста (называя его «тест Морриса») - на соответствие ансельмовской концепции Бога как Всесовершенного Существа, концепции творения и свидетельствам Писания. Он также показывает, что ни одна из этих теорий не проходит данного «теста» по всем этим показателям и подчеркивает, что никакая юридическая трактовка (какие бы за ней авторитеты ни стояли) основного сотериологического догмата христианства не соответствует ни понятию Бога как личностного Абсолюта, ни креационизму. Взамен акцентируются три евангельские сотериологические образа, без затруднения проходящие предложенный «тест», в соответствии с которыми самопожертвование Иисуса Христа и Его победа мыслятся в образах Пастыря, Воина и Врача. На последнем образе - как богословски недостаточно осмысленном - автор останавливается подробнее.
Бог, искупление, выкуп, сатисфакция, пример, заместительное наказание, любовь, юридическое сознание, индульгенции, евангельские метафоры
Короткий адрес: https://sciup.org/140294899
IDR: 140294899 | УДК: 2-1 | DOI: 10.47132/2541-9587_2021_3_68
Текст научной статьи Концепции искупления в аналитической теологии и некоторые неучтенные метафоры
The article was submitted 18.08.2021; approved after reviewing 31.08.2021; ac-cepted for publication 07.09.2021.
Как было уже не раз выяснено, аналитическую философскую теологию можно было бы описательно определить как такой бренд аналитической теологии, который отличается от основных других («философия религии», естественная теология) тем, что здесь центрировано специальное и подробное внимание к христианским догматам. И здесь хотелось бы остановиться на том, который, с одной стороны, не относится к сверхразумным в первой степени, с другой, — исследуется и защищается преимущественно в традиционном ключе (в отличие, например, от догмата о Боговоплощении1). На деле, этих «ключей» было несколько, и они, как правило, хранились у одних и тех же патристических и более поздних авторов. Подобно тому, как одним и те же первостепенные мыслители совмещали несколько основных объяснений происхождения и изобилия зла в богосозданном мире, так и здесь одни и те же церковные и философские авторитеты допускали не одну версию искупления, далеко не всегда осознавая контаминационный характер своих воззрений на центральную доктрину христианской сотериологии.
Что же касается теологов-аналитиков, то для них эти воззрения выступают в «округленном виде», т. к. внутренняя полифония у исторических авторов основных доктрин Искупления для них большого интереса не представляет. Они не апеллируют ни к классическим исследованиям по патристической теологии в целом — таким, например, как капитальный том Дж. Бетьюн-Бейкера «Введение в раннюю историю христианской доктрины» (1903, 1919, 1933) [См. Bethune-Baker, 1903, 327–355] или восполняющий его замечательный труд Дж. Н. Д. Келли «Ранняя христианская доктрина» (1958, 1960, 1965, 1968) [См. Kelly, 1968, 163-188], — ни к специальным монографиям, охватывающим все периоды развития догмата об Искуплении от патристики до епископального теолога У. ДюБосе (1918), таким, например, как «Доктрина Искупления» Дж. К. Мозли (1916). Вне их внимания оказалось и знаменитое теоретикоисторическое изыскание шведского теолога Густава Аулена «Христос Победитель» (1930, 1931, 1970), с которого в определенном смысле начинается современный этап дискуссий на эту тему. Можно, однако, говорить о том, какие именно наиболее известные исторические версии интерпретации искупления опознаются, критикуются и отстаиваются теми авторами, которые публикуются в наиболее известных антологиях по философской теологии. Эти версии можно идентифицировать в хронологической последовательности.
Четыре исторические парадигмы
Менее других, но все-таки учитываются патристические концепции, восходящие к св. Иринею Лионскому (ок. 130-202). Одна из них — концепция нового возглавления Иисусом Христом рода человеческого (ἀνακεφαλαίωσις; recapitulatio), в соответствии с которой Он стал Вторым Адамом, чтобы восстановить то, что было потеряно первым, исходя из полного параллелизма, указанного апостолом Павлом, между двумя человеческими причастностями одному Адаму и Другому (1 Кор 5:45–47). Эта параллель позволяет понять, как Бог, став человеком, смог победить дьявола, победившего первого Адама (и вместе с ним все его потомство) (Haer. III 21. 10; IV 38. 1; V 1.2; 21.1; 21.3; 22.1). Дж. Келли прав в том, что из этой — как она не очень удачно называется, «физической» — концепции искупления2 еще не следует известнейшая «теория выкупа», которая восходит к тому же великому богослову и которая в известном смысле отодвигает первую за задний план. Причина этого восполнения понятна: «физическое» объяснение еще не позволяет понять, как именно эта победа Христа над силами зла могла быть осуществлена, так как одного Бо-говоплощения не было достаточно для спасения [Kelly, 1968, 173–174]. Правда, «теория выкупа» не была единственным способом объяснения победы Христа, который предложил Ириней: само Его послушание воле Отца до смерти крестной было «восстановлением» первого Адама (Haer. V.16.3). Тем не менее, он считал, что поскольку враг человека не без согласия последнего взял его в плен, он должен был получить выкуп за свою добычу (Haer. V.1.1).
Образ выкупа (λύτρον) старательно развивает в толкованиях на библейские тексты Ориген, согласно которому Иисус отдал Свою душу и жизнь не Отцу, но дьяволу в обмен за освобождение плененного человечества (In Matt. XVI. 8, 12, 28; In Ioh. VI.53; Hom. In Exod. 6, 9). Дьявол не смог «переварить» свою новую добычу, превысившую его силы, а потому был вынужден «исторгнуть» ее. Именно с Оригена начинаются очень популярные в будущем рассуждения о (само)обмане источника зла, который не мог предвидеть во всей полноте цену этого «выкупа» и просчитался. Наиболее обстоятельно они развиваются в «Большом катехизисе» св. Григория Нисского, который писал о достаточно законных правах дьявола на человеческий род (при добровольности самоотдачи человека своему врагу Бог как бы не имел права пользоваться непосредственно силой) и уже скорее о его спасительном обмане со стороны Бога человеческой внешностью Иисуса Христа, на приманку которой он попался как рыба на крючок (Or. Cat. 22-24). Хотя его брат, св. Василий Великий, не увлекался такими рискованными образами, он принимал как самоочевидное, что род человеческий должен быть «компенсирован», при том, что человеческой компенсации для этого недостаточно (Hom in Ps. 7I.2, 48.3–4).
Однако многие последующие авторитеты смело пошли за св. Григорием Нисским: св. Григорий Великий говорил, что тело Христа было крючком, на который был пойман дьявол и пронзен (Mor. XXXII.7), по Исидору Севильскому тело Христово оказалось сетью для птицы (Sent. I.14), а у Петра Ломбард -ского крест оказался и вовсе похожим на мышеловку, помазанной Его кровью (Sent. III.19). Уже Г. Оксенем отмечал, что эту версию Искупления довольно трудно примирить с идеей выкупа: надо выбирать все-таки что-то одно — спасительное послушание, «честную сделку» или обман, пусть и божественный [Oxenham, 1865, 45]. Но все три плохо совместимых компонента хорошо продержались до XI в. в той или иной пропорции вместе в едином представлении, которое Г. Аулен и назвал Christus Victor, считая его прямым антиподом теории сатисфакции Ансельма. Это не значит, что она была эксклюзивной: некоторые из тех же авторитетов, которые ее придерживались, принимали вместе с ней и другое объяснение, прямо противоположное — что жертва Сына была принята Отцом за грехи человеческие. Правда, обе объяснительные версии были подвергнуты очень убедительной критике третьим великим каппадокийцем — св. Григорием Богословом (Or. 45, 22), но они своей «понятностью» для людей тех времен подавляющее большинство катехизаторов и проповедников устраивали.
Значительно большим вниманием в аналитической теологии пользуется теория Искупления как удовлетворения божественной справедливости (сатисфакции) Ансельма Кентерберийского, изложенная в его специальном трактате «Для чего Бог стал человеком» (CurDeus Ноmо, 1094–1098). Ансельм возражал прежде всего тем, кто полагал, что Божественное всемогущество было достаточным, чтобы простым мановением воли достичь всех спасительных целей и без треволнений (биологических и моральных) вочеловечения. Бог стремится к тому, чтобы человек мог достичь счастья, а последнее было бы недостижимо, если бы не была решена проблема с высшим несчастьем — грехом, который следует мыслить как нанесение ущерба чести Бога со стороны человеческого рода, а потому, чтобы быть достойными счастья, люди должны этот моральный ущерб Богу компенсировать.
На возражение абстрактного совопросника (Босо), почему Бог не мог бы элементарно простить человечества и устранить тем самым преграду для счастья, Ансельм отвечает, что это означало бы прежде всего нарушение справедливости со стороны Бога, и Богу как источнику высшей справедливости пришлось бы вступить в противоречие с Собой и «обрушить» Самому весь установленный Им моральный порядок в мире. Однако такая несправедливость была бы и в высшей степени непедагогична для человечества, которое не может быть счастливым, не будучи справедливым. Проступок первых людей, ставший оскорблением (contumelia) и поруганием чести (exhonorare) Законодателя, потребовал от человеческого рода соразмерного вине удовлетворения (satisfactio) Божественному правосудию и восстановления изначального универсального порядка вещей (Cur Deus. I.11–13). А потому наилучшим для Бога было не просто отпустить грех человечеству, но изыскать способ, каким оно могло бы уплатить свой долг Ему. Долг этот, однако, настолько громаден, что только равная компенсация могла бы удовлетворить Божественную справедливость, и она не по силам человеческому роду; но в то же время согрешил этот род, а потому она должна быть оплачена им. Следовательно, оплатить этот долг может только Богочеловек, т. е. такой человек, который является и Богом, и своей смертью мог бы примирить с Богом грешный род человеческий (Cur Deus II.15).
Ансельмовы идеи были в основном приняты (с модификациями) Ришаром и Гуго Сен-Викторскими, Бонавентурой и, что еще важнее, Фомой Аквинским3, а потому аналитики-томисты также следуют редактированной версии теории сатисфакции. Недостатки этой теории много раз обсуждались даже теми, кто считали ее в принципе удовлетворительной. К ним мы вернемся позже, но здесь можно упомянуть то, что считается ее достоинствами. Это прежде всего как раз избавление христианской сотериологии от идеи задолженности человеческого рода дьяволу и необходимости соответствующего выкупа, но также и акцентирование именно греха — добровольного нарушения Божьей воли — как основного ингредиента падения человека, в то время как в предшествовавший период в центре внимания были его следствия [См., к примеру: Mozley, 1916, 128–129]. Считается также и очень высоко ценится то, что именно эта интерпретация искупления обеспечивает его «объективный» аспект.
Хотя Г. Аулен до такой степени противопоставлял схоластической концепции искупления патристическую, что настаивал на том, что за ними стоят различные понимания и греха, и спасения, и Боговоплощения и даже природы Бога [См. Aulen, 1970, 147-154], на деле разрыв здесь при всей его значительности не следует преувеличивать. Если раньше доминирующим мотивом была необходимость выплаты долга дьяволу, то теперь «бенецифиарием» становится Бог, однако то, что сделал Ансельм, была лишь значительная рационализация прежних юридических трактовок таинства веры, а потому очень популярное мнение, будто ансельмовский юридизм полностью заместил патристическое его видение, равнозначно тому, чтобы выдавать желаемое за действительное. Многовековая историческая победа новой версии искупления над прежней была достигнута, как кажется, благодаря ее монолитности — в сравнении с «лоскутной» фактурой прежней, в которой контаминировались в сущности малосовместимые ингредиенты (см. выше). А цельность и логичность открыли Ансельмовой концепции широкий повсеместный путь в богословское образование и катехизацию, в том числе в России4.
Имеет своих сторонников в аналитической теологии и т. н. «теория экзем-пляризма», изложенная Петром Абеляром в комментарии на Послание к Римлянам апостола Павла (после 1136), согласно которой искупление мыслилось не как выкуп дьяволу и не как то, что кровь Невинного должна была удовлетворить оскорбленного Бога, но как высшее проявление Божественной Любви, должной воспламенить любовь и в человеческих сердцах, вдохновляя их на свободное избрание богосыновства5. Правда, новаторство Абеляра не было радикальным, но, как и у патристических авторов, его концепция была многослойной: у него можно вычитать и идею выкупа, и ту же теорию сатисфакции, но они остаются у него «фоновыми», не «тематическими». Заслугу Абеляра в деле «балансирования» юридизма признают очень многие, но немало и тех, кто предъявляют ему претензию за то, что сам «механизм» искупления у него объяснения не получил и смерть на кресте Богочеловека не связывается у него фактически с человеческими грехами. Абеляр во многом сомневался: и в том, что сама смерть на кресте была единственно возможным средством восстановления человечества и в том, что голгофские страдания были соизмеримы преступлению Адама6. Это и дало материал для анафематствования его врагами Гильомом из Шампо и Тьерри Шартрским7. Однако далеко не все оппоненты Абеляра были ортодоксальными «ансельмианцами». Хотя Бернард из Клерво его жестко критиковал, основной абеляровский мотив был ему близок: в толковании на «Песнь песней» акцент ставился на освободительной силе любви [См. Moozely, 1916, 135].
Но, пожалуй, в центре полемики аналитических теологов располагается все-таки протестантская концепция заместительного наказания. Ее можно было бы записать как модификацию ансельмовской теории с акцентировкой «наказательной сатисфакции». Несомненно, здесь сказалась религиозная психология Лютера, которого с юности преследовали образы вечных наказаний грешников. Если Ансельмово теоретизирование можно трактовать как спекулятивное рассуждение о Божественной справедливости, достаточно автономное по сути от свидетельств Писания, то Лютерово учение — как теорию оправдания человеческого рода, основывающуюся именно на этих свидетельствах. Его идеи вращались вокруг двух положений апостола Павла: Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою (ибо написано: проклят всяк, висящий на древе [Втор 21:23]) (Гал 3:13) и Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою] за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом (2 Кор 5:21). Трактуя в духе своей герменевтики первую из этих цитат буквально, в духе своей безоглядности и с выведением всех последствий из того, что можно видеть по-разному, он понимает жертвенный подвиг Христа как действительную Его трансформацию в грех и проклятие, как реальное восприятие Им личности разбойника и преступника, вследствие чего Он мог во всей полноте вкусить гнев Божий как принятие на Себя всей человеческой греховности и неся за них всю полноту моральной и правовой ответственности. Суть заместительного самопожертвования Христа и заключается в Его кенозисе, в том, что Он отказывается добровольно от Своей праведности,
«меняя» ее на греховность всего человеческого рода. Только вследствие этого Бог меняет Свой гнев на падшее человечество на милость, вменяя ему ради Христа праведность (iustumpronuntiat), «засчитывает» ее ему (imputat)и, вследствие этого оправдывает (iustificat). В этом учении об оправдании Лютер видел саму суть христианства, в котором содержатся все остальные догматы. Потому, указывается все в том же толковании на Послание к Галатам, «когда мы учим, что человек оправдан через Христа и что Христос — победитель греха, смерти и вечного проклятия, мы тем самым свидетельствуем, что Он Бог по природе (natura Deum)»8. Именно в этом контексте можно понимать возвращение Лютера к идее Christus- Victor, в которой Г. Аулен видел его основную заслугу [Aulen, 1970, 102–111]. Юридические коннотации теории заместительного наказания последовательно развиваются у Кальвина. К нему же восходит и предположение о том, что Бог некоторых предопределил к вечной жизни, а некоторых к вечному проклятию (Inst. III.21.5). Этот момент, однако, не находит отражения в дискуссиях, к которым мы уже совсем скоро перейдем.
Входить в более подробные нюансировки этих исторических концепций можно, но для наших целей не нужно. Аналитические философы — «пробле-моцентристы», а не «историоцентристы», а именно ими мы здесь занимаемся. Для нас важнее другое — различение тех случаев, когда отстаивают одну из этих «принятых теорий» или больше и когда в большей мере подвергают одну из них или больше критике.
Аналитические догматики
Теперь можно уже посмотреть, как эти модели понимания искупления преломляются в аналитической теологии. Для этого мы выделим прежде всего соответствующие статьи в основных антологиях по философской теологии, составители которых очень разумно стремятся представить разные и даже оппозиционные точки зрения. Но мы не будем игнорировать и другие публикации тех же авторов.
Ричард Суинберн единодушно и справедливо считается живым классиком аналитической философской теологии, но он напоминает по складу своего мышления и континентальных систематизаторов. Подобно «панлогисту» Вольфу он пытается построить все здание разумной религии на фундаменте нескольких первопринципов (один из которых — принцип простоты как критерия валидности любых теорий) и подобно Фихте последовательно разрабатывает «общее теистическое наукоучение» в виде обоснования когерентности теизма, систематизации индуктивных доказательств существования Бога и теистической эпистемологии (нормативный метод эвиденциализма9) и «специальное» — в виде обоснования психофизического дуализма, учений о свободе воли, о чудесах, об Откровении, о Воскресении, рае и аде, но также и о теистической этике и Искуплении. Двум последним тема и была посвящена его монография «Ответственность и Искупление» (1989). Как и в большинстве других случаев, здесь также аналитические теологи в определенном смысле делятся на сторонников и оппонентов этой в значительной степени ключевой фигуры.
Его понимание первородного греха представляет собой опыт синтеза теизма с эволюционизмом, а потому и та грандиозность падения человека, которая следовала бы из учения о его начальном совершенстве (философ связывает его с именами св. Афанасия Великого и блж. Августина) значительно смягчается у Суинберна представлением о начальной человеческой слабости, выражающейся к склонности к чувственности и о наследовании греха потомками Адама как наследования социальной передачи моральности, в ходе которой грех оказывается возможным. Однако концепция собственно искупления у английского философа — однозначно ансельмовская. Речь идет о том, что подобно тому, как если бы господин Х проигнорировал, что господин Y совершил убийство его жены, то такое поведение Х было бы явно ложным, так если бы и Бог спокойно смотрел на наши грехи без компенсации, то Он не принимал бы их (а потому и нас) всерьез10. Так и родитель был бы плохим воспитателем, если бы принял извинения набедокурившего отпрыска без какого-то исправления с его стороны — пусть и такого, в котором ему помог бы тот же родитель. Библейское видение жертвы как лучшего средства искупления грехов кажется Суинберну оптимальным, а самопожертвование Христа за людей- грешников лучшей из возможных жертв, поскольку человеческие жертвы не могут быть чистыми [Swinburne, 1989, 154–155]. Следствием искупления (Atonement) должно быть освящение людей (Sanctification), которое равнозначно формированию правильных моральных воззрений и усердному приведению себя в жизни к соответствию им.
Cуинберн компактно и концентрированно отстаивает и модифицирует теорию сатисфакции в статье «Христианская схема спасения», которая была включена сразу в две антологии по философской теологии — и М. Рея, и О. Криспа. Если мы полностью зависим от Бога и Он открывает перед нами бесконечные возможности, то если Бог есть, те наши поступки, которые по своему типу в мирских отношениях можно было бы рассматривать как сверхдолжные (superegatory), становятся в этом контексте обязательными (obligatory), а их неисполнение — нарушением обязательств перед Богом. А это и есть то, что называется грехом. Если человек делает то, что неправедно (осознаёт он это или нет), он грешит объективно, если делает это намеренно — грешит субъективно11. Но люди и согрешили (все до одного) намеренно и при этом вовлекли и других в грех, и именно в этом вовлечении, а также в склонности ко греху и состоял первородный грех, и каждый человек несет двой ное бремя — и собственного, и первородного греха [Swinburne, 1989, 365]12.
Бог, правда, мог бы нас простить без всяких условий, но (Суинберн об этом напоминал ранее) Он как жертва неправедности не имеет морального права игнорировать нанесенный Ему ущерб, т. к. это означало бы не принимать того, кто наносит этот ущерб, всерьез. Мог бы Бог и простить нас за одно извинение и раскаяние, без компенсации и епитимьи, как о том писал Фома, но, поскольку наши действия и их последствия значимы (matter), мы должны предпринимать соответствующие их значимости шаги для примирения с Ним (настолько, насколько это логически возможно). И потому Он хотя и не может искупить наши грехи в буквальном смысле (literally), Он смог изобрести для нас средство осуществления этого — использовав Свою жизнь и смерть в качестве нашей искупительной жертвы [Swinburne, 1989, 366]. Принесение жертвы есть лучшее искупление наших грехов, больше которого даже Бог не может от нас потребовать. Особенно с учетом того, что Жертва и есть Тот, Кому она приносится. Однако я могу участвовать в этой жертве только при том условии, что использую ее — прибавляя к ней свое покаяние — как действительное средство оплаты своих долгов и достижения внутреннего мира. Но для этого требуется и «формальная» ассоциация с этой Жертвой, которая обеспечивается Церковью, Им же созданной — «новым человечеством» [Swinburne, 2009, 367].
Очень известный аналитический теолог Стивен Дэвис, автор монографии «Христианская философская теология» (2006), в этом вопросе (как и в некоторых других), следует идеям Ансельма и Суинберна13. Главу «Гнев Божий и Кровь Христова» он открывает с замечания, которое ему кажется чем-то само собой разумеющимся: «Если мы спасены благодатью, как утверждает христианство, остается еще вопрос о том, как в точности (precisely) осуществляется наше спасение» [Davis, 2006, 212]. Из этого следует, что мы имеем рациональный доступ не только к суждениям о тайнах Божьих, но и к ним самим. Эта избыточно оптимистическая эпистемическая презумпция разделяется большинством аналитиков, занимающихся «божественными вещами» (Джонатан Эдвардс), хотя и не все ее озвучивают. Как и некоторые другие философы, пишущие об искуплении, он предлагает морфологическую реконструкцию самого понятия искупления — atonement, разбивая его на at-one-ment, т. е. трактует как достижение единения с Богом (после разъединения) [Davis, 2006, 212]. Он сетует на то, что сами понятия «Гнев Божий» и «Кровь Христа» в настоящее время относятся к самым непопулярным, и пытается исправить это положение дел. Гнев Божий должен быть реабилитирован как точное указание Библии на необходимость наказания грешников, предназначенное для их исправления и приведения их к покаянию.
Подвергая решительной критике (вслед за и Суинберном) Абелярово объяснение тайны креста, Дэвис не один раз повторяет (почти как мантру) свою формулу, согласно которой «всегда стоит дорого исправить страшно неправильное положение дел» c. Чтобы убедить в этом и читателя, он приводит с его точки зрения два весьма убедительных примера: не было ли бы балаганом, если бы на войне солдаты вместо пролития крови воевали с роботами, а шекспировская трагедия «Ромео и Джульетта» закончилась бы вместо гибели невинных влюбленных братанием двух враждебных кланов после того, как кто-то догадался бы, что так значительно лучше [Davis, 2006, 218– 219]? Прямая же пропозиция Дэвиса заключается в том, что подобно тому, как в обыденной жизни провинившаяся сторона должна каяться и исправлять свои поступки, так и в высшей жизни каждому грешнику надо было бы самому взойти на крест в уплату своих великих долгов, но таким образом не было бы достигнуто ничего, и такие смерти были бы бессмысленны. Модель же искупления предстает в готовом виде из Библии, когда говорится, что после того, как первосвященник, приходящий во святая святых за прощением прегрешений своего народа (Йом-Кипур, день искупления) приносит в жертву всесожжения тельца и одного из козлов, то на другого «возлагает» грехи народа и отпускает его погибать в пустыню (Лев 16:20–22). О том же свидетельствует и новозаветное послание: Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения (Евр 9:22) [Davis, 2006, 220]. Вновь обращаясь к Ветхому Завету, Дэвис припоминает кратчайшую его формулировку: Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом (Иер 7:23). Поскольку мы нашу сторону договоренности / сделки (bargain) не обеспечили, то быть Божьим народом не можем. Очень тяжелое положение вещей может быть исправлено только очень высокой ценой. Как и на войне, и в «Ромео и Джульетте» кто-то должен умереть. «И тот, кто умер, был Христос. Его кровь уплатила наказание за наши грехи. Его смерть сделала возможным прощение наших грехов. Это была та цена, которую надо было уплатить». Это видно и из того, что Бог не только Бог любви и милoсти, но и справедливости. А о том, что эта плата была законна, видно из того, что потерпевшая сторона (в данном случае Бог после грехопадения людей) имеет право определять, каково должно быть искупление вины [Davis, 2006, 220–221].
Ортодоксальный протестант Стивен Портер также опирается на Суинберна. В статье, так и названной «Искупление по Суинберну и доктрина заместительного наказания» (2004), он предлагает читателю подробный экскурс в вышерассмотренную монографию. Проходя в рассмотрении учения об Искуплении с ним большую часть пути, он четко обозначает, где начинается развилка. Там, как выясняется, где Суинберн допускает, что у Бога были возможности выбора тех средств, которые могли бы служить в качестве компенсации и наказания за грехи человеческого рода [Porter, 2009, 319]. Оказывается, что такого выбора у Него не было. Потому что и быть не могло. По той причине, что если бы Он мог выбрать другое средство, Он его и выбрал бы. Если бы Его добродетельнейшей жизни было достаточно, то Он не имел бы необходимости восходить на крест (а мог бы прямо, например, из Гефсиманского сада быть вознесенным на небо), но этого не произошло.
Следуя за Суинберном в различении непредумышленных и намеренных проступков, Портер приводит два примера (первый из которых также заимствован у Суинберна): намеренное разрушение кем-то моего автомобиля и нарушение супружеской верности. В обоих случаях виновные должны быть не просто как-то наказаны, но и лишены определенных прав. Правда, в некоторых случаях отказ от заслуженного наказания может быть и полезен, но есть и внутренние цели (intrinsicends), которые реализуются во всех случаях праведного, ретрибутивного наказания. В случае с Богом Он имел все моральные права (при попрании Его дружбы с людьми) лишить человеческие жизни прав и привилегий, препятствующих физической и духовной смерти. Остается только показать моральную когерентность переноса глобального наказания людей на Христа, иными словами, показать оправданность наказания невиновного. Портер ссылается на очень известного этика Р. Хеэра, которого трактует в том смысле, что наказание остается наказанием, даже если наказали без вины. Тем, кто считают такую процедуру аморальной, Портер возражает, что наказание невиновного оправдывается, если перевешивают те блага, которые за ним следуют. Не видит Портер несправедливости и в «трансферте наказания»: жертва (в том числе и Бог, оскорбленный человеческими грехами) имеет моральное право выбирать объем и субъекта ретрибуции. И чтобы всем скептикам стало всё понятно, он приводит трогательнейший, на мой взгляд, пример. Футболист опаздывает на тренировку, и тренер его наказывает, веля ему сделать пять кругов вокруг поля, а капитан команды просит самого тренера сделать эти круги вместо провинившегося, и тренер соглашается. Перед нами очевидный «перенос наказания» (transferofpunishment). Зло заключалось в разъединении команды, благо — в восстановлении ее единства, а кто конкретно его осуществил, не меняет конечного результата [Porter, 2009, 325].
Этот чисто утилитаристский подход к делу (который прямо приписывается Богу) автор реализует в сугубо правовой оптике, об уместности которой при обсуждении того, что он обсуждает, он, видимо, не задумывается. «Кажется, будет правильным сказать, что Христос испытал на кресте потерю благих даров и возможностей человеческой жизни в дружбе с Богом. Это те права и привилегии, которые мы попрали, и кажется, что они те самые, от которых Христос отказался на кресте вместо нас. При том воззрении на наказание, которое я обрисовал, Бог как жертва правонарушения (the victim of wrong doing) может решать, до какой степени и каким образом должно быть осуществлено наказание, заслуженное нами» [Porter, 2009, 326]14. Если Сам Христос добровольно и в сознании это принял, а Бог этому не воспротивился, то значит, что и в организации обсуждаемой голгофской процедуры никакой несправедливости не было.
Оливер Крисп в солидной по объему статье «Первородный грех и Искупление» для «Оксфордского руководства по философской теологии» Т. Флинта и М. Рея (2009) утверждает прежде всего, что теория заместительного наказания полнее и глубже объясняет учение об Искуплении, чем ее основные «конкуренты», сохраняя их сильные стороны. Ее сторонники могут согласиться с древней, патристической концепцией выкупа в том, что деяния Христа имеют компенсаторный характер; включает она в себя и ансельмовское представление о сатисфакции; содержит она и идею нравственного примера Христовых деяний, как и абеляровская концепция. Но для того чтобы данная теория сама получила достойное истолкование, ее следует дистанцировать от тесно сросшейся с ней «юридической метафоры» [Крисп, 2009, 640].
Взамен юридической метафоры он предлагает «метафизическую», которую называет также «четырехмерной онтологией». Крисп отталкивается от идей блж. Августина, много размышлявшего над тем, как в Адаме все согрешили (Рим 5:12)15. Речь идет об «августинианском реализме», суть которого в том, что и нравственная испорченность, порожденная падением первого человека, и вина, связанная с его грехом, передаются от него его потомкам — в виде некоего рода «традуционизма». Перспективной, полагает Крисп, следует признать точку зрения Карла Барта, которая позволяет видеть в Христе «первого» по отношению к избранным не в хронологическом смысле (как Адам), а в некоем «логическом» или «метафизическом» предшествовании им. Однако, если обратиться к августинианской трактовке, поскольку каждый из «вторично избранных» есть частица единого целого, включающего в себя и Христа, то и «наказание, которое должны принять вторично избранные за свой грех, переносится на Христа или на ту Его “часть”, которая восходит на крест, так, что Он действительно принимает на Себя карательные последствия греха, подменяя собою людей». А потому Он, даже не согрешив, вследствие причастности «этой большей сущности», может «оплатить последствия греха», совершённого другими, к этой сущности причастными [Крисп, 2009, 649]. Очевидно, однако, что на деле эта объяснительная версия является не столько метафизической, сколько иринеевской, поскольку именно там было сформулировано учение о новом возглавлении человеческого рода (см. выше).
Самым авторитетным адвокатом доктрины Абеляра единодушно признается Филип Куинн, чья статья «Абеляр об Искуплении: “Ничего непонятного, субъективного, алогичного и имморального”» была опубликована в двух онтологиях — М. Рея и О. Криспа (2009). Цитата в ее названии взята из книги апологета Абеляра Хастингса Рэшдалла, писавшего в начале ХХ в.16 С ней контрастирует уничижительный вердикт Ричарда Суинберна, уместившийся в одном предложении и отметающий эту концепцию как совершенно бесполезную для понимания искупления. Ремарка Суинберна в резком виде обобщает, по мнению Куинна, «вердикты» по Абеляру, восходящие еще к Бернарду Клервоскому, обвинившему его в чем-то вроде пелагианства17, и популярные в настоящее время, когда выдающемуся философу и теологу приписывается экземпляризм, предполагающий, что всё, сделанное Христом для человечества, сводится к тому, что Он дал образец самопожертвенной любви, не обеспечив «объективные» возможности для спасения [Quinn, 2009, 335].
Куинн доказывал, что навешанные на теорию Абеляра ярлыки не подтверждаются его текстами, так как он прямо утверждал, что наше спасение было содеяно двояким образом: тем, что Христос понес наказание за наши грехи, и тем, что Он ввел нас в рай, отведя наши умы от греха и возжегши в них божественную любовь [Quinn, 2009, 342–343]. Среди теорий искупления можно различать одномерные и многомерные. К первым относится прежде всего теория сатисфакции Ансельма и его последователей, которые понимают искупление исключительно в рамках легалистской категории уплаты за долг. К другим относится в числе прочих сотериология Фомы Аквинского — «иерархический плюрализм», — в которой хотя сатисфакция также считается основной, но всё же не единственной составляющей искупления (учитываются и облагодатствование человеческого рода, и «выкуп» его у дьявола, и примирение его с Богом через самопожертвование). Аналогичный «иерархический плюрализм» мы обнаруживаем и у Абеляра, чья доктрина искупления отличается от томистской скорее акцентами, чем «составными частями» [Quinn, 2009, 337]. Если же кратко вычислить баланс тех мотивов искупления, которые в этой доктрине присутствуют, то можно сказать, что значение ее в том, что в искуплении акцентируется «идея о том, что Божественная любовь, обнаружившая себя в жизни Христа, но в особенности в Его страдании и умирании, имеет силу изменять человеческие души, если они объединяются таким образом, чтобы могли быть пригодны для вечной жизни в близком союзе с Богом» [Quinn, 2009, 347].
Гордону Грэму в главе «Искупление» для антологии Ч. Талиаферро и Ч. Мейстера (2010) импонируют все четыре традиционные объяснительные модели, но в различной степени. Древняя «теория выкупа» подверглась заслуженной критике уже Ансельмом, и к ней можно предъявить по крайней мере две весьма серьезные претензии — явную недооценку божественного всемогущества и имплицитное допущение того, что люди, попавшие в плен к дьяволу, были (как и все заложники) невинными [Graham, 2010, 126–127]18. Теория сатисфакции принуждает нас считать любящего Бога устрашающим существом, гнев которого должен быть умиротворен. Теория заместительного наказания также сталкивается с двумя проблемами. Во-первых, не до конца понятно, почему даже обычные люди могут просто прощать друг друга, а «Бог прощающий» (ведь таким Он предстает из Писания и христианского учения) ничем другим не может удовлетвориться, кроме как только наказанием. Во-вторых, остается без достаточного объяснения то, что обычно считается непреодолимым возражением против данной теории — как может осуществиться справедливость, если Невинный наказывается вместо виновных? Наконец, теория Абеляра имеет то преимущество, что она принимает в расчет не только «объективную», но и «субъективную» сторону искупления, акцентируя значение «человеческого фактора», прежде всего деятельного подражания Христу. Однако Сам Христос предстает из этой теории в конечном счете не более чем учителем или пророком, примеру которого нужно следовать, и, таким образом, по крайней мере с ортодоксальной стороны, серьезно понижается Его статус. Выход Грэм видит в том, чтобы синтезировать преимущества абеляровской теории и теории заместительного наказания. Долги надо платить, и долг каждого пострадавшему за него Иисусу грандиозен, но из этого не следует, что тот долг может быть уплачен сразу. Именно через подражание Христу, при соединении своих усилий в Церкви христиане могут стать теми, кто в состоянии (в меру своих сил) уплачивать долг, а через это достичь и единства с Ним (что «гарантируется» самим догматом о Боговоплощении).
А вот Ричард Кросс хотел бы синтезировать, кажется, экземпляризм с са-тисфакционизмом. Подробно излагая ансельмианскую теорию в интерпретации Суинберна, восхищаясь его «исполнением» и одновременно критикуя его, он разрабатывает средствами суинберновской же «аналитической техники» теорию, восполняющую лакуны, остающиеся после первой. Эту его теорию можно было бы назвать «меритизмом», поскольку она ставит акцент на понятие не справедливости, а заслуги (merit), и сам автор называет ее теорией заслуги (themerittheory) [Cross, 2009, 341]. Дело в том, что стандартная теория сатисфакции опирается не на весь трактат Ансельма, упуская из виду те идеи, которые великий схоласт представил в конце своего произведения. Кросс обращает внимание читателя на тот пассаж, где Отец должен «компенсировать» Сыну ходатайство за тех, за кого Тот положил Свою жизнь и на кого хотел бы распространить Свою заслугу перед Отцом (II. 19). Смерть Христова — это (как совершенно правильно указывает Суинберн) сверхдолжное действие (asuperegatorygoodact), заслуживающее награды от Бога. Награда в том, чтобы удовлетворить любое прошение Христа. А Он просит Бога простить грехи тех, кто каются перед Богом и просят у Него прощения. Потому Бог обязан (isobliged) удовлетворить эту просьбу. «Следовательно, освободительный результат Христовой жертвы в том, что Бог обязуется простить тех, кто взывает к нему в раскаянии и скорби» [Cross, 2009, 342].
При этом Кросс (как и Грэм, см. выше) ставит акцент на «субъективном» факторе Искупления. Даже самый ортодоксальный августинианец не допустил бы, что прощение может осуществляться без нашего приятия (acceptance). А оно должно быть активным (не пассивным), включающим в себя помимо раскаяния и просьбы о прощении также и благодарность — благодарность за полученный дар, и никто не будет считать, что этот дар прощения может даваться тем, кто не кается. Хотя Кросс не упоминает Абеляра, он следует выводам из его теории. Пытаясь ответить на вопрос о том, почему Богу предпочтительнее взять на себя обязательство, нежели просто ограничиться обещанием (см. выше), он завершает свое объяснение тем, что Христос дает нам пример совершать не только должное, но и сверхдолжное, подражая Ему Самому [Cross, 2009, 343–344].
Аналитические реформаторы
Предоставляя в своей антологии веское слово «спикерам» классических теорий Искупления, М. Рей и О. Крисп очень уместно включают в нее и «диссидентов», выступающих с критикой основных интерпретаций. Прежде всего небольшую заметку Дэвида Льюиса «Верим ли мы в заместительное наказание?» (1997). Философ, сделавший больше чем кто бы то ни было для разработки метафизических применений логической теории возможных миров, но далекий от христианства, моделирует более чем жизненный вопрос. Человек совершил преступление, но у него есть честный, невинный и преданный ему друг, готовый понести вместо него всё наказание. Будет ли это достаточным основанием для судей, чтобы освободить преступника от наказания? Вряд ли. Что-то мы не знаем о таких событиях из СМИ, которые очень жадны до сенсационных новостей. Дело, считает Льюис, не столько в том, что таких самоотверженных друзей не найдется (они, в принципе, и могут найтись), а в том, что они прекрасно понимают, что никто не примет их жертву, поскольку она прямо противоречит разуму [Lewis, 2009, 328].
Проблема с христианами состоит в том, что и они в обычной жизни ни за что не одобрили бы ситуацию, в которой неповинный понес наказание за виновного, хотя и настаивают на возможности и даже необходимости этого в своем центральном сотериологическом догмате. Почему-то никто из них не говорит, что невинные волонтеры должны нести даже малое наказание за грабителей и убийц, подобно тому, как Христос уплатил грандиозный долг наказания за всех грешников. Однако и те, кто не исповедует христианские догматы, непоследовательны: они считают недопустимым, чтобы невинные шли на смертную казнь ради преступников или даже хотя бы на каторжные работы, но вполне допускают, чтобы друг заплатил штраф за своего провинившегося друга, и такая практика вполне устраивает власти и общество. Но ведь это также будет случаем пенитенциарного замещения (penalsubstitution). Из этого следует неожиданный полуапологетический вывод из уст «агностика»: те, кто упрекнут христиан в непоследовательности, имеют все основания ожидать и от них того же упрека. Эти ситуации демонстрируют, что «обе стороны согласны, что пенитенциарное замещение иногда имеет смысл, даже если никто не может сказать, каким именно образом оно имеет смысл» [Lewis, 2009, 333]. Потому теория заместительного наказания хотя и имеет свой диапазон, но он ограниченный.
Элеонора Стамп ни упоминает Суиберна в статье «Искупление по Фоме Аквинскому», включенной в антологию М. Рея (2009), но, cкорее всего, только что изложенная картина его видения спасения подвергается в ней решительной критике под грифом «нерефлективной версии искупления», которая выдается за теорию Ансельма. Именно эта популярная сотериология является, на ее взгляд, препятствием для серьезного исследования догмата об искуплении.
Прежде всего, эта популярная версия не достигает главной из поставленных перед ней целей — продемонстрировать прощение человеческих грехов Богом. Ведь если Дэниэл должен Сьюзен 1000 $ и не может их вернуть, а она аккуратно взыскивает их с его сестры Мэгги, то можно ли считать, что Сьюзен прощает долги? Кажется, никоим образом. Более того, Бог по этому объяснению никак не справедлив. Будет ли справедливой мать, которая наказывает ни в чем не повинного старшего ребенка за тяжкие проступки младшего на том основании, что тот слишком слаб для того, чтобы претерпеть наказание? Не назовем ли мы ее жестоким варваром? [Stump, 2009, 268] Противоречит эта модель объяснения и некоторым другим положениям христианского вероучения. Например, тому, что некоторые грешники должны будут уплачивать свои долги в вечности (хотя они якобы были полностью уплачены на кресте). Ведь наказанием за грех считается ад, а не смерть, а потому и крестная смерть Христа от этого наказания не избавляет. Обсуждаемое объяснение спасения не позволяет ответить и на вопрос о цели искупления: даже если наши долги «уплачены» такой высокой ценой, она недостаточна для устранения главного последствия греха — отчуждения человека от Бога, потому что история никак не свидетельствует о том, что искупление изменило человеческую природу и те ее склонности, которые привели к тому, от чего оно призвано было человеческий род избавить [Stump, 2009, 269].
Считая популярную версию искупления «безнадежной» и с философской, и с богословской точки зрения, Стамп возлагает значительно бóльшие надежды на «авторские» версии, называя истолкования догмата у Аквината, Кальвина и Иоанна Креста19. Она, однако, ограничивается преимущественно первым. Фома Аквинский различал две цели Искупления — «удовлетворение» за содеянные грехи и исправление человеческой природы. Описание первой задачи у него очень напоминает внешне «популярную версию». Однако есть существенное различие: по той версии результатом первородного греха было отчуждение Бога от человечества, здесь — отчуждение человечества от Бога. Поэтому у Фомы сатисфакция составляет лишь одну из трех частей епитимьи — наряду с раскаянием и с исповеданием грехов. А в целом епитимья есть средство врачевания души, состоящее в отвращении к греху и желании изменить жизнь к лучшему. «И потому функция сатисфакции у Аквината — не умилостивление гневного Бога, а восстановление грешника до состояния гармонии с Богом» [Stump, 2009, 272]. В соответствии с этим, осмысляя наказание за грехи, Аквинат рассматривает состояние того, кто согрешил, а не Того, против Кого согрешили. Допускает он и чтобы одно лицо принесло «удовлетворение» за другое — но только в том случае, если между ними есть полное согласие в этом (Aquin. ST. I–II, q.87, a.7–8) и то, другое лицо стремится всё сделать ради «отмены» того, что им содеяно. В целом же Бог «популярной версии» и Бог томистский различаются между собой в аспекте сатисфакции не меньше, чем бухгалтер, записывающий долги в одну колонку и их возмещение в другую (как делают, подразумевается, Суинберн и его последователи), и отец, желающий, чтобы ребенок развился в наилучшую личность и между ними установились отношения любви [Stump, 2009, 274].
В завершение статьи католичка Стамп демонстрирует подлинный теологический экуменизм, отмечая, что по крайней мере в одном, но очень важном пункте Лютер существенно восполняет лакуну в рефлексии Фомы. Речь идет о том его понимании искупления, при котором крестные страдания образовались из некоей непостижимой «передачи» всех грехов, совершенных всем человечеством за всю его историю в душу распятого Христа. Недостаток рассуждений Фомы — в их оторванности от Писания, тогда как Лютер подчеркивал, что Христос действительно принял в Себя грехи человечества, о чем свидетельствует описание гефсиманских страданий (Мф 26:30-40) и голгофский крик о богооставленности (Мф 27:46) [Stump, 2009, 290-291]20. В принципе, эта Лютерова идея могла бы быть инкорпорирована в доктрину Аквината через понятие «пятен греха», которые могут заполнить душу и того, кто сам их не совершал (подобно тому, как сцены кровавого убийства в кинофильме оставляют след в душе тех, кто его смотрит) [Stump, 2009, 291].
Свежий взгляд на обсуждаемые проблемы бросает Чарльз Талиаферро в своей статье «Глубокое спасение» (2015), опубликованной в юбилейном сборнике, посвященном Стивену Дэвису, в которой он вступает с юбиляром в очень дружественный, но критический диалог. Делая вид, что он только немножко развивает идеи, которые у его коллеги содержатся латентно, Та-лиаферро предлагает фактически альтернативное видение искупления, которое он правомерно называет «углубленным» (deepredemption). Он заявляет о своей близости к концепции Христа-победителя Г. Аулина и к тому, что называется версией восстановления (theregenerativeaccount) [Taliaferro, 2015, 30].
Начать с того, что казалось бы бесспорное «пророчество» о заместительной сатисфакции в Книге Левит нельзя считать таковым: библеист Петер Шмихен отмечает, что кровь жертвенных животных считалась символом жизни, а не смерти, а козел отпущения, выгоняемый в пустыню, никаким образом не считался субститутом людей-грешников [Taliaferro, 2015, 32]. Утверждение Дэвиса о том, что серьезное дело всегда требует крови для его решения, также весьма сильное: папа Лев I, убедивший в свое время предводителя гуннов Атиллу оставить в покое Рим, не приносил себя в жертву, а большинство итальянских феодальных войн шекспировской эпохи также не кишели летальными исходами. Но главное не в этом, а в том, что страдания и смерть Христа на кресте хотя и несли в себе последствия грехов, содержали реализуемую возможность «изобильной, преображенной, целительной жизни». Cам ракурс видения искупления должен быть смещен, так как оно «может и должно видеться прежде всего в ракурсе Бога, осуществляющего восстановление и исцеление, а не в ракурсе страдания невинной жертвы, умилостивляющей гневного Бога, склоненного к наложению наказания» [Taliaferro, 2015, 34]. Искупление не должно рассматриваться изолированно от прочих спасительных свершений Христовых, так как оно составляет лишь одну, хотя и важную их составляющую. Остальными Талиаферро называет саму жизнь Иисуса Христа и Воскресение, которые «составляют призыв к нам соединиться с Христом; мы призываемся избавиться от греха с тем, чтобы иметь жизнь подобную жизни воскресшего Христа» [Taliaferro, 2015, 35]21.
Испытание на «тест Морриса»
Отличие моей позиции от таковой большинства англо-американских теологов заключается в том, что я не считаю возможным предполагать, что для меня открыта структура конкретных мотиваций Богочеловека на Его крестном пути и механизм того, что и как было Им совершено на Голгофе. Я ограничиваю свою компетентность лишь допущением возможности оценивать сами человеческие концепции, которые суть зарисовки этого таинства веры, различая среди них сильно режущие глаз и те, на которые как-то еще можно смотреть. С этой целью предлагается протестировать каждую из четырех моделей понимания Искупления, использовав три критерия Томаса Морриса, на которых уже специально останавливались в другом месте — экспертизу теологических утверждений по критериям соответствия философскому понятию Всесовершенного Существа, выше которого ничего не может быть помыслено (и которым только и может быть теистический Бог), доктрине креационизма (которая отделяет классический теизм от всех прочих форм религиозного мировоззрения) и свидетельствам Библии [См. Morris, 1991, 43]. Именно в указанном порядке этих критериев заключается специфика философской теологии, тогда как, например, для рассмотрения тех же концепций искупления в кадре догматического богословия их порядок должен был бы быть прямо противоположным.
Что касается «теории выкупа», то, как было отмечено, она складывается из нескольких разнородных смысловых тканей, из которых наиболее качественной следовало бы признать формулировку св. Иринея Лионского о новом возглавлении человеческого рода Вторым Адамом. Она не противоречит ни одному из обозначенных критериев. Однако и концепция правовой Его сделки с диаволом, и позиционирование Его в качестве хитрого птицелова, мышелова и рыболова, прямо противоречащее «честной сделке», прямо противоречит и идее «Того, выше чего ничто не может быть помыслено» и креационизму. Противоречат они и Писанию, свидетельствующему о том, что даже вселиться в свиней Его «оппоненты» могли только с Его соизволения, сердечно радуясь, что их не послали в бездну (Лк 8:31–33, ср. Мф 8:31–32, Мк 5:12–13). Потому ни о нечестной сделке, ни даже о честной с диаволом речь идти никак не может, а картина, нарисованная св. Григорием Нисским и некоторыми другими патристическими авторами вслед за Оригеном (см. выше) должна оцениваться преимущественно только с художественно-риторической точки зрения. Но и на этом уровне она не совсем соответствует психологии (если, конечно, у падших духов есть душа в нашем понимании): источник зла не заблуждался относительно того, с Кем он имеет дело, и потому разоблачители его относительной наивности его явно недооценили22. Другая существенная аберрация в «теории выкупа» была связана с тем, что было перепутано, кто с кем собирается вступать в договорные отношения: на самом деле это был диавол, который обещал Иисусу за признание его власти все земные блага (Мф 4:8–10).
Не проходит по тем же критериям и гораздо более авторитетная теория сатисфакции. Тот ее педагогический пафос, который упорно раскручивает Ричард Суинберн, опровергается самим примером, на который он делает столь значительную ставку. Элеонора Стамп совершенно права, что «сатис-факционисты» лишают Бога милосердия (так как на деле долг не прощается, а просто переносится), оставляя за Ним одну только очень сомнительную справедливость при взимании штрафа с Невинного за повинных. Я думаю, что с точки зрения «Того, выше чего ничто не может быть помыслено», Его принижение до уровня шерифа, который взимает весь долг с того, о ком он знает, что он точно невиновен, потому что с ковбоя взятки гладки, является, если уж говорить о моральном ущербе, оскорблением большим, чем то, которое было нанесено Ему Адамом. Ведь скорее всего Адам, в отличие от профессиональных философов, еще не изучал метафизику и не работал с категориями. Так Ансельм-метафизик опровергает Ансельма-сотериолога. Да и с точки зрения креационизма эта картинка не проходит. Если уж Стивен Дэвис решил подпереть сатисфакцию трагедией Шекспира, то с ним можно успешно поспорить на той же территории. Мог ли бы король Лир нанести моральный ущерб Шекспиру своим неразумным самолюбием? Или, возьмем уже подлинных чудовищ, — могли бы нанести ему таковой ущерб леди Макбет или Яго? Скорее всего никто из тех, кто в своем уме, не ответит на этот вопрос положительно. А ведь все нужные параллели тут есть. Названные персонажи являются созданиями Шекспира в такой же мере, как сам Шекспир созданием Творца. Но на деле разница есть и тут: онтологический разрыв между драматургом и его персонажами меньший, чем между Творцом и драматургом23. Да и сами юридические термины отношений как таковые, с которыми работает теория сатисфакции, теистической теологии противоречат, так как субъекты юридических отношений должны быть онтологически достаточно равноправными. Не подтверждается эта теория и текстами Писания24, так как сами понятия удовлетворения (satisfactio) и заслуги (meritum) появляются много позднее и кладутся в основании другой теории — индульгенций.
Почему же, несмотря на очевидное для очень многих теологов и философов несоответствие между теистическими отношениями Бога и Его созданий и чисто антропоморфной понятийной системой, их оформляющей, от идеи сатисфакции до конца очень мало кто готов был отказаться как на Западе, так и в России?25 Потому что она обеспечивает человека твердыми гарантиями перед своим Создателем: долг за человеческий род уплачен, и от нас зависит только честно продолжать уже заключенную сделку, а если он уплачен Богочеловеком, то святые из своих «резервов» могут оплачивать и наши частные долги. Потому Ричард Кросс очень последовательно в рамках этого мышления указывает на сверхдолжные «заслуги» Христа-Бога, за которые он может по праву иметь «бонусы», а это и есть теория индульгенций, с которой так отчаянно сражался Мартин Лютер, на деле предложивший лишь последовательное развитие последствий из тех предпосылок, которые делали эту последнюю теорию совершенно естественной.
Правда, в Евангелии есть притча о немилосердном должнике (Мф 18:23– 35), но ее смысл в том, что у Бога не два свойства — милосердие и справедливость, — но только одно, первое. Господин, а это Бог, просто прощает — без всяких компенсаций — того, кто задолжал ему огромное состояние, ради одной своей милости, совсем не заботясь о его «воспитании» (как то делают Суинберн и его последователи), но потом взыскивает с него весь долг (обратим внимание, что не с его «заместителя») не потому, что это был долг, а за то, что урок высшего милосердия не пошел ему в толк, и ни на какие юридические отношения между ними нет и намека, так как есть одни только этические. Да и в другой притче о должниках, из которых один был должен 500 динариев, а другой 50 (Лк 7:41-42), речь идет об одном только безвозмездном прощении и о любви, ожидаемой в ответ. Потому тот Бог, который вычитывается из теории сатисфакции, есть не столько Бог, сколько антропоморфный идол, о чем ее сторонники, видимо, не подозревают за недостатком того, что феноменологи религии называют нуминозными чувствами.
Абеляровский экземпляризм успешно проходит все три «теста». Жертвенная любовь Христа, которая в этическом плане и есть «то, больше чего нельзя себе ничего помыслить», и есть высшее самопроявление Всесовершенного Существа. Никак она не противоречит и креационизму, если считать, что Творцом мира и человека является Всеблагое Существо. Да и апостол призывает своих последователей к тому же экземпляризму: подражатели мне будьте, как и я Христу (1 Кор 11:1), а сам Он словами будьте совершенны, как Отец ваш Небесный (Мф 5:48). Поэтому презрительное неприятие его «сатисфакци-онистами» (см. выше) есть неприятие со стороны сотериологического юри-дизма, твердо держащегося за «объективные» условия спасения, которые на деле суть «индульгентские». Проблема с немногочисленными последователями Абеляра не в том, что они субъективисты, а в том, что они пытаются восполнять то, что подлежит устранению. Сам Абеляр не мог пойти дальше, чем он пошел, так как и без того был анафематствован, они же не могут сделать решительный шаг, в духе кьеркегоровского «Или — или» по причине влиятельных в «теологическом бомонде» «юристов» — влиятельных вследствие легалистических основ самого западного менталитета. Другой недостаток экземпляризма можно считать симметричным по отношению к сатис-факционизму. Ведь если для тех Голгофа в значительной мере изолируется от всех остальных составляющих спасения (начиная с самого Боговоплоще-ния), то здесь она в определенной степени утрачивает свою «специфику», так как подражание Христу вполне удовлетворяется следованием Его учению, а решающие действия «механизма спасения» вплоть до божественной богоо-ставленности здесь не получают должного отражения.
Большие проблемы с совместимостью с теологией Всесовершенного Существа и у теории заместительного наказания, которая резко разделяет Божество как бы на две части — наказующую и наказуемую. Обе из них однозначно не подходят под «то, выше чего можно нечто помыслить», и притом не нечто, но немалое. Несправедливость «наказующей стороны» уже была выяснена, но в этой теории она возвышается до жестокости. Что же касается стороны наказуемой, то Лютер был весьма последователен, предположив, что она не может быть хотя бы по домостроительству спасения безгрешной (см. выше), поскольку наказание действительно по определению предполагает проступки. Ему надо было выбирать между заместительным наказанием Иисуса и Его невинностью, и первое — как «необходимая доктрина» для сознания, центрирующегося на наказании — оказалось для него предпочтительнее второго. Известно, что обсуждение Божественного всемогущества включало в себя начиная уже с древних времен (и особенно схоластики) и обсуждение того, что значит все-могущество, а именно, не означает ли оно, что для Бога нет вообще ничего невозможного, и Декарт, например, принимая это буквально, допускал, что все-могущий Бог может и согрешить (ср. вопросы о том, не может ли Он сделать бывшее небывшим или — самый популярный предмет — камень, который Он не может поднять). Однако эти парадоксы всемогущества разрешались (и сейчас разрешаются) теми, кто разумен и понимает, что Бог как Существо Совершенное действительно может сделать все, кроме того, что этому совершенству противоречит26. Разумеется, попытка оправдывать заместительное наказание пользой для «общего дела» можно еще меньше, и рассуждения Стивена Портера об общей пользе такого наказания для человечества не превышают этический уровень тех, кто оправдывал ядерный удар по Хиросиме полезностью его для вой ны, а его абсурдная аналогия с «заместительным наказанием» тренера вместо игрока (она таковая даже на спортивном уровне27) опускает данную концепцию ниже плинтуса, тогда как запрет Богу иметь другие сценарии спасения рода человеческого кроме одного, — и еще ниже.
Но даже и не в утилитарной версии, а лишь в сатисфакционной с уточнениями (желание Гордона Грэма освободить ее от юридизма беспредметно, поскольку этот юридизм составляет ее сущность) заместительное наказание проблематично потому, что наказание вообще не совсем та модальность, в которой выстраиваются отношения между Богом и людьми, по крайней мере для взрослого читателя Библии. Человек сам себя наказывает за то, что не следует божественным рекомендациям о том, как ему строить свою жизнь, и изгнание из рая было не ретрибуцией, а необходимой «сменой обстановки» для того, кто добровольно эти рекомендации, данные ему как разумному и свободному существу, отверг. И Иисус говорит: Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день (Ин 12:48), из чего следует, что человек подвергается не наказанию, а скорее самонаказанию. И даже когда апостол Павел говорит, что возмездие (ὀψώνια) за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим 6:23), то под «возмездием» (употребленное слово первоначально означало «обязательство», «выплату») понимается то бремя, которое на себя налагает сам человек. В этом смысле наказание от Бога адекватно передается славянским словом «наказание» как «наставление», «поучение»28.
Остается только факт совместимости этой «теории» с другими и притом многочисленными библейскими пассажами, где о наказании Божьем говорится в прямом смысле, с пророческими текстами, где прямо говорится и о заместительном наказании (прежде всего Ис 53:4–12) и на которые опирается апостол Павел, и с теми прообразами заместительных жертв животных, на которые ссылаются сторонники этого объяснения Искупления. В третьей позиции представляются ценными ссылки Чарльза Талиаферро на библеистов, которые критиковали эти прямые ассоциации. В самом деле, они воспроизводят очень древнее типологическое толкование Библии, требовавшее, ради доказательства сплошной преемственности двух Заветов, в которой не все были уверены, исключения и малейшего зазора между ними, т. е. продвижение доктрины за счет разума29. Такое толкование на деле принижает христианского Бога, который отличается от «прообразовавших» Его жертвенных животных уже тем, во-первых, что пошел на само-пожертвование совершенно добровольно и тем, во-вторых, что эти животные были только жертвами, а не жрецами. Господство на протяжении более чем тысячелетия теории четырех смыслов Писания, допускавшей любые практически смысловые натяжки, объясняет остаточную популярность «сплошных прообразований» и в современной теологии. Что же касается откровений, полученных Исаией и принятых Павлом, то из них следует то, что Агнец Божий принимает на Себя грехи мира (Ин 1:29), но не то, что Он тем самым замещает Собой грешников, которым положено за них наказание.
Размышляя над тем, почему ни одна из больших версий объяснения Искупления не прошла благополучно «тест», предложенный выше, можно выбрать одну из двух причин. Первая — что сам он был подобран не совсем квалифицированно, вторая — что в них во всех есть что-то общее, что порождает аберрации. Мне, как «разработчику теста», конечно, предпочтительнее принять вторую версию объяснения. И тут скорее всего прав Талиаферро, отмечающий системную ошибку своих коллег в противоестественном отрыве искупления от тех других событийных составляющих спасения, только в единстве с которыми оно занимает свое место в христианской сотериологии. Он совершенно прав в том, что Воскресение является самым главным в Искуплении, но можно добавить, что также без Вознесения и Сошествия Св. Духа оно не может занять свое реальное место. Правда, эта мысль была неоднократно высказана ранее русскими богословами, пытавшимися, пусть и непоследовательно, освободиться из пут сотериологического юридизма. Так, В. Н. Лосский неоднократно обращал внимание на наличие в Писании достаточного количества сотериологических метафор неюридических30. На некоторых из них я бы и хотел в заключение остановиться не совсем мимоходом.
Метафоры, способные «проходить тесты»
Основных из них три, все они «упакованы» в Евангелиях, и могут быть извлечены оттуда при внимательном чтении. В каждой из них содержится образ Христовой победы через самопожертвование, хотя эти составляющие акцентируются не одинаково.
Первый образ — воинский, но не заключающий в себе ничего схожего с договорными отношениями или выкупом. В. Н. Лосский правомерно видел его в вопросе Иисуса в ответ на хулу фарисеев, начавших внушать народу, что Он изгоняет бесов их же силой: Или, как может кто вой ти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? И тогда расхитит дом его (Мф 12:48). Следует добавить, что если начальная моральная победа была одержана во время искушения в пустыне, то о завершающей мистической было сказано в прощальной речи, обращенной к апостолам перед Голгофой: ныне князь мира сего изгнан будет вон (Ин 12:31). Однако евангельское время трансхронологично: истину того, что произошло на Голгофе с князем мира сего, должен открыть ученикам Св. Дух после Вознесения (Ин 16:1).
Другой образ — пастырский, которому посвящена отдельная проповедь в последнем из Евангелий: Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый душу свою полагает за овец (Ин 10:11). Истинное пастырство и заключается в такой ответственности за стадо, что простирается до неизбежной смерти. Здесь образ победы стушевывается в сравнении с только что рассмотренной воинской образностью, а жертвенность является доминантной, хотя на деле в самой этой жертвенности и заключается победа. Но жертвенно- пастырским увещеванием окрашена и притча о злых виноградарях: Хозяин виноградника посылает к ставшим преступными наемникам Сына, который после гибели других слуг (пророков) возвещает им истину ценою жизни о том, кому поистине принадлежит виноградник (народ израильский). То обстоятельство, что она есть у всех синоптиков (Мф 21:33–41, Мк 12:1–9, Лк 20:9–16), свидетельствует о ее значимости в евангельской картине Божественного домостроительства.
Третий образ — врачебный. Ориген был прав, увидев целительный аспект Искупления в притче о добром самарянине, который не только сжалился над путником (олицетворяющим человечество), израненным разбойниками (олицетворяющими бесовскую силу), но, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино (Лк 10:34) (In Luc. XXXIV.6–7)31. Однако и многочисленные случаи исцелений расслабленных и бесноватых также несут в себе не только буквальный смысл. Наиболее же близким к теме видится рассказ об исцелении Иисусом расслабленного у Овчей купели. К осмысляемому здесь догмату специальное имеет отношение то, что ему не могли помочь исцелиться ни люди, ни даже ангел, который лишь «возмущал» по временам воду, но никак не отвечал за то, кому с ней больше повезет. Другой момент не меньшей значимости в том, что паралич расслабленного происходил от его грехов, что чудо исцеления (после 38 лет обездвиженности) его не изменило и что он побежал предавать своего исцелителя за обличение причины своей болезни (Ин 5:3–16). Поступок грешного паралитика (которого Иисус исцелил, прекрасно зная о том, чем это для Него кончится) ровно в такой же мере предвосхищает (и по времени очень близко) предательство Иуды и многих других исцеленных в Израиле, как и воскрешение Лазаря — Воскресение Христово.
Все три метафоры не оставляют для юридизма никакого места, а потому должны быть положены в основание здравой сотериологии, но медицинская значительно меньше, чем другие, осмыслялась. Было общим местом, что Жертва Христова является и целительной, но в глубь этой констатации входили мало. (Зато этому помогает сегодняшняя мировая катастрофа в виде правящего миром вируса как оптимально найденной формы инфернальной глобализации.) Действие Христово можно было бы уподобить подвигу Врача, который таинственным образом, будучи таинственной главой человеческого рода, ценой своей смерти принял на себя ради человечества все штаммы (прошедшие, настоящие и будущие) как последствия человеческих грехов и умер, не выдержав этого яда, а через свое Воскресение дал человечеству такую прививку, которая гарантирует исцеление каждого без исключения от семени вечной смерти при условии соблюдения духовных мер предосторожности, здорового режима и приема особых лекарств, среди которых можно было бы предположить в первую очередь следование общеизвестным Божественным заповедям и той, которая была дана в Эдеме еще раньше заповеди о послушании — заповеди о богомысленном созерцании32.
Медицинская метафора позволяет ответить и на ряд вопросов лучше чем другие. Так честный скептицизм Элеоноры Стамп, отмечавшей, что причины Голгофы остались в неприкосновенности до настоящего времени, может быть по крайней мере частично встречен тем, что и лучшая прививка с терапевтическими рекомендациями бессильна там, когда после исцеления бросаются в объятья тех, для кого болезнь есть высшая радость, а медикаменты выбрасывают в окно. В той же метафоре можно вычесть и убедительный ответ на протестантско-католический спор Нового времени о том, распространяется ли искупление на всех или только на богоизбранных. Дело в том, что само понятие богоизбранности устанавливается не исходно, а по результату: это те, кто не хотят последствий смертельной болезни и лечатся (а не те, кто в обыденной жизни процветают). Имеет эта объяснительная стратегия и то преимущество, что сам грех получает более глубокую трактовку: в первую очередь как добровольно принимаемая смертельная заразная болезнь и лишь во вторую — в качестве следствия — как невыполнение определенных обязательств33. Очевидно, что эта трактовка никак не отменяет той изначальной веры Церкви, что Сын Божий был распят за человеческие грехи, но не как «заместительно наказуемый» за них, а как целитель их смертоносных последствий.
Таинства спасения не обязаны соответствовать представлениям давно ушедших эпох с соответствующими социальными ментальностями34. Потому и для сотериологии вряд ли правомерно отрицать законность инноваций, которые имеют место в современной эсхатологии, где также переосмысляется ее старинное пенитенциарное ядро35. А потому самым последовательным было бы и переименование обсуждаемого догмата из «искупительного» в «восстановительный» (в нераздельном единстве с Воскресением, Вознесением и Сошествием Св. Духа), чему, конечно, препятствует прежде всего многовековая традиция словоупотребления36. Но самое главное, что, вероятно, следует держать в уме, это что нет таких метафор, которые давали бы точное отражение тех реалий, которые являются сверхразумными, вероятно, не только для человеческого, но и для любого тварного ума, а потому здесь могут быть только видения сквозь [тусклое] стекло, гадательно (1 Кор 13:12), но никакие в реальном смысле теории.
Список литературы Концепции искупления в аналитической теологии и некоторые неучтенные метафоры
- Гнедич (2007) — Гнедич П., прот. Догмат искупления в русской богословской науке. М.: Сретенский монастырь, 2007.
- Корякин (2016) — Корякин С. С. К вопросу об источниках традиционной протестантской теории Искупления // Христианское чтение. 2016. № 3. С. 62-87.
- Крисп (2009) — Крисп О.Д. Первородный грех и искупление // Оксфордское руководство по философской теологии / Сост. Т. Флинт, М. К. Рей; пер. с англ. В. В. Васильева. М.: Языки славянской культуры, 2009. С. 632-662.
- Лосский (2003) — Лосский В.Н. Боговидение / Пер. с фр. В.А. Рещиковой. М.: АСТ, 2003.
- Макарий (Булгаков) (1883) — Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое богословие. Т. 1. СПб., 1883.
- Неретина (2010) — Неретина С. С. Абеляр и особенности средневекового философствования // Абеляр П. Теологические трактаты / Сост., пер. с лат., ввод. статья, коммент., указатели С. С. Неретиной. М.: Канон+, 2010. С. 5-70.
- Пилипенко (2011) — Пилипенко Е.А. Понимание Искупления в протестантизме // Православная Энциклопедия. Т. XXVII. М., 2011. С. 300-304.
- Уоллс (2009) — Уоллс Д.Л. Ад и рай // Оксфордское руководство по философской теологии / Сост. Т. Флинт, М. К. Рей; пер. с англ. В. В. Васильева. М.: Языки славянской культуры, 2009. С. 718-747.
- Шохин (2013) — Шохин В.К. Так ли антигуманна христианская эсхатология? (Комментарий к статье В. В. Кузева) // Философия религии: Альманах. 2012-2013. М.: Восточная литература, 2013. С. 145-160.
- Шохин (2018) — Шохин В.К. Философская теология: канон и вариативность. СПб.: Нестор-История, 2018.
- Шохин (2021) — Шохин В.К. Так называемый парадокс художественной литературы и трансцендентальная онтология // Философский журнал. 2021. Т. 14. № 1. С. 20-35.
- Abelard (2011) — Abelard. Commentary on the Epistle to the Romans / Transl. by S. R. Cartwright. Washington (D. C.): The Catholic University of America Press, 2011.
- Aulen (1975) — Aulen G. Christus Victor: A Historical Study of the Three Main Types of the Idea of Atonement / Author. transl. by A. G. Hebert. London: SPC, 1975.
- Bethune-Baker (1903) — Bethune-Baker H.-F. An Introduction to the Early History of Christian Doctrine to The Time of The Council of Chalcedon. London: Methuen &Co. LTD, 1903.
- Cross (2009) — Cross R. Atonement Without Satisfaction // Oxford Readings in Philosophical Theology. Vol. I. Trinity, Incarnation, Atonement / Ed. by M. Rea. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 328-347.
- Dаvis (2006) — Davis S. Christian Philosophical Theology. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Graham (2010) — Graham G. Atonement // The Cambridge Companion to Christian Philosophical Theology / Ed. by C. Taliaferro, C. Meister. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. P. 124-135.
- Kelly (1968) — Kelly J.N.D. Early Christian Doctrines. Edinburgh: R. and R. Clark, 1968.
- Lewis (2009) — Lewis D. Do We Believe in Penal Substitution? // A Reader in Contemporary Philosophical Theology / Ed. by O. Crisp. London; New York: T&T Clark, 2009. P. 328-334.
- Lubac (1959) — Lubac H. de. Exegese medieval. Les quatre senses de l'Ecriture. T. 1. Paris: Aubier, 1959.
- Mozley (1916) — Mozley J. K. The Doctrine of the Atonement. New York: Charles Scribner's Sons, 1916.
- Oxenham (1865) — Oxenham H. N. The Catholic Doctrine of Atonement: an Historical Inquiry into Its Development in the Church. London: Longman etc., 1865.
- Porter (2009) — Porter S. L. Swinbernean Atonement and the Doctrine of Penal Substitution // Oxford Readings in Philosophical Theology. Vol. I. Trinity, Incarnation, Atonement. Ed. by M. Rea. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 314-327.
- Quinn (2009) — Quinn P. Abelard on Atonement: "Nothing Unintelligible, Arbitrary, Illogical, or Immoral about It" // A Readerin Contemporary Philosophical Theology. Ed. by O. Crisp. London; New York: T&T Clark, 2009. P. 335-353.
- Rashdall (1919) — Rashdall H. The Idea of Atonement in Christian Theology. London: McMillan, 1919.
- Stump (2009) — Stump E. Atonement According to Aquinas // Oxford Readings in Philosophical Theology. Vol. I. Trinity, Incarnation, Atonement. Ed. by M. Rea. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 267-293.
- Swinburne (1989) — Swinburne R. Responsibility and Atonement. Oxford: Clarendon Press, 2021.
- Swinburne (1985) — Swinburne R. Original Sinfulness // NeueZeitschriftfurSystem atischeTheologie. 1985. Bd. 27. S. 235-250.
- Swinburne (2009) — Swinburne R. The Christian Scheme of Salvation // A Readerin Contemporary Philosophical Theology. Ed. by O. Crisp. London; New York: T&T Clark, 2009. P. 354-369.
- Taliaferro (2015) — Taliaferro Ch. Deep Redemption // Christian Philosophical Theology. Ed. by C. P. Ruloff. Notre Dame (Ind.): University of Notre Dame Press, 2015. P. 29-45.