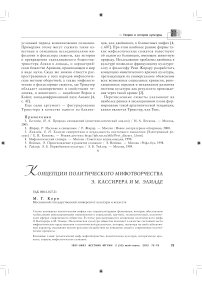Концепции политического мифотворчества Э. Кассирера и М. Элиаде
Автор: Корн М.Г.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 3 (53), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена политическим мифам как социокультурным феноменам, которые обусловлены глобальными революционными изменениями в социальной, научной, технологической, политической сферах современного общества. В статье рассматриваются концепции политического мифа Э. Кассирера и М. Элиаде. Политическая культура общества включает в качестве составной части мифологические представления о политической реальности, которые, несмотря на свой субъективный характер, оказывают вполне реальное воздействие на поведение людей и современные политические процессы.
Политический миф, мифотворчество, политическая культура, историческое прошлое, социум, мифологическое сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/14489521
IDR: 14489521 | УДК: 008:1-027.21
Текст научной статьи Концепции политического мифотворчества Э. Кассирера и М. Элиаде
Политические мифы как социокультурные феномены обусловлены глобальными революционными изменениями, которые произошли в социальной, научной, технологической, политической сферах современного общества. Задача, стоящая перед мифом в любой точке истории общества, — это разрушение устаревшего мифа или его обновление и создание новой культурной нормы, нового инструмента социальной регуляции, управления или манипуляции, а следовательно, репрессия личности в целях подчинения ее обществу. Во времена исторических перемен и кризисов роль нерациональных факторов, в том числе мифов, увеличивается, а общество в качестве неравновесной системы характеризуется высокой подвижностью внутренних и внешних связей и чутко реагирует на любые изменения в духовной сфере. Для культуры характерен повышенный интерес к иррациональному, мистическому и мифологическому опыту. Тенденции общественных трансформаций и рост социальных изменений привели к тому, что эти процессы получили своеобразное отражение в мировоззрении современного человека, его представлениях о реальности.
Символическая теория мифа немецкого философа — неокантианца Э. Кассирера обогатила и углубила представления о сущности и функциях политического мифа как автономной символической формы культуры, выраженной особым способом символической объективизации чувственных данных. Кассирер считал, что «искусство открывает нам мир живых форм; наука — мир законов и принципов; религия и миф опираются на сознание универсальности фундаментального единства жизни».
Миф рассматривается Кассирером в каче- стве замкнутой символической системы, объединенной характером функционирования и способом моделирования мира. Именно поэтому он подчеркивал выдающееся значение мифотворчества для понимания человека и социума. Мифологическое мышление проявляется в синкретизме реального и идеального, вещи и образа, тела и свойства, начала и принципа, в силу чего сходство или смежность преобразуются в причинную последовательность, а причинно-следственный процесс имеет характер материальной метафоры.
Э. Кассирер, высоко оценивая мифотворчество, считал, что оно является одним из ярких проявлений духовной деятельности человечества, и, действительно, оно весьма продуктивно и в художественной жизни человечества — в творчестве, и в искусстве, и в науке, но в то же самое время он предупреждал о том, что миф создает лишь представление о единстве жизни и ее универсальности, не имея достоверных знаний о реальных законах и принципах жизни, и таким образом подменяет собой знание. Отметим, что именно поэтому научное знание продвигается вперед в непрекращающейся полемике с научными мифами, которые по своему характеру и содержанию включают как ложные теории (птолемеевская модель Солнечной системы и т.п.), так и различного рода фальсификации («лысенковщина»), облеченные в наукообразную форму и когда-то признанные на государственном уровне. Слепая вера в безграничные возможности человека (эпоха Возрождения), в абсолютную силу разума (эпоха Просвещения), безграничный прогресс человечества и общества представляют собой модификации ми-фомышления и являются исходным пунктом для рождения новых мифов. Мифы опровер- гаются, но тотчас создаются новые, такие же притягательные, втягивающие в свою орбиту все большее число сторонников.
Э. Кассирер в работе «Техника современных политических мифов» связывает современное политическое мифотворчество с кризисной ситуацией в Германии, состояние социальной и экономической жизни которой в 30-е годы ХХ века было близким к краху. Он отмечает, что в обществе царило паническое настроение, что все реальные средства выхода из кризиса были исчерпаны. Это состояние всеобщего страха и неуверенности и стало питательной почвой для возникновения политических мифов.
Вслед за Б. Малиновским, Кассирер подчеркивает тот факт, что даже в примитивных сообществах, где миф господствует над всей совокупностью социальной жизни, миф достигает апогея в том случае, если человек сталкивается с неожиданной ситуацией или задачей, решение которой далеко превосходит его естественные возможности. Политика полна неожиданностей и катаклизмов, и поэтому в этой области миф проявляется столь полно. Кассирер цитирует французского ученого Е. Дютте, который в книге «Магия и религия племен Северной Африки» дает ясное и четкое определение мифа, интерпретируя его как персонификацию коллективных желаний.
Кассирер замечает, что это определение передает и идею лидерства или диктаторства. Он пишет: «Тяга к сильному лидеру возникает тогда, когда коллективное желание достигает небывалой силы и когда, с другой стороны, все надежды на удовлетворение этого желания привычными, нормальными средствами не дают результата. В такие моменты чаяния не только остро переживаются, но и персонифицируются. Они предстают перед глазами человека в конкретном, индивидуальном обличье. Напряжение коллективной надежды воплощается в лидере. Прежние социальные связи — закон, правосудие, конституция — объявляются не имеющими никакой ценности. То, что остается, это мистическая власть и авторитет лидера, чья воля становится высшим за- коном» [1, с. 579].
Понятно, что персонификация коллективного желания не может быть одинаковой у цивилизованных наций и у примитивных племен. Современный человек, по мнению Кассирера, подвластен действию необузданных страстей, но при этом он не забывает о требованиях рациональности. Поэтому для того чтобы верить, он создает «теорию», которая бы оправдывала эту веру, иногда весьма изощренную. Современный человек исповедует сорт магии «социальной». Причем современные люди верят в то, что для удовлетворения коллективных желаний нужен лишь «специалист». Кассирер вспоминает также теорию героев Карлейля, который считал, что на протяжении всей истории человечества ее необходимым элементом является вера в героя. Новый миф создается целенаправленно, в соответствии с планом, и этим принципиально отличается от древних мифов, которые возникали спонтанно и были результатом работы коллективного бессознательного.
Милитаризму в Германии в 1930-е годы предшествовало создание политических мифов. Для этого был использован язык, слово, которое приобрело магическую функцию, поскольку было направлено на изменение реальности, на стремление к тому, чтобы заставить людей производить определенные действия. Магическая функция слова начинает доминировать над семантической, знакомые слова приобретают новое значение и смысл, они призваны вызывать вполне определенные действия и возбуждать вполне определенные эмоции и разрушительные страсти. В нацистской Германии слова подверглись деструкции настолько, что их содержание и эмоциональную атмосферу, созданную вокруг них, стало невозможно адекватно передать на английском языке, который развивался в совсем ином политическом контексте [1, с. 583].
Слово в нацистской Германии получило магические функции, как в архаическом сообществе, стало служить средством политической пропаганды, подогревать варварские политические настроения и примитивные человеческие страсти — злобу, бешенство, высокомерие, презрение и самонадеянность. Магические слова подкреплялись введением многочисленных новых политических ритуалов, которые были обязательными для каждого и распространялись на все без исключения классы и возрастные категории. Нарушение ритуалов и, тем более, их неисполнение было гибельно для индивида. Как и в архаических сообществах, он был лишен чувства «я» и индивидуальной ответственности. Ритуалы, благодаря их бесконечному повторению, усыпляли критичность и разум индивида.
Опасность современных политических мифов Кассирер видел в том, что они направлены на изменение чувств и мыслей людей, чтобы затем контролировать и регулировать их действия. Политический миф разрушает ценность частной жизни и личной свободы.
Политические лидеры выполняют функции, сходные с теми, что выполняли маги в примитивных сообществах. Они также являются проводниками высшей воли и предсказывают будущее. Кассирер утверждает: «Наши современные политики прекрасно знают, что большими массами людей гораздо легче управлять силой воображения, нежели грубой физической силой. И они мастерски используют это знание. Политик стал чем-то вроде публичного предсказателя будущего. Пророчество стало неотъемлемым элементом в новой технике социального управления. Даются самые невероятные и несбыточные обещания; “золотой век” предсказывается вновь и вновь» [1, с. 585].
Разрушить миф с помощью философского знания невозможно, так как он нечувствителен к рациональным аргументам и логике. Но философия может помочь нам понять противника и осознать его силу. Кассирер пишет, что сначала политический миф казался настолько абсурдным и смехотворным, что никто не принимал его всерьез. И это было величайшим заблуждением. Чтобы не повторять прошлых ошибок и победить политический миф, необходимо изучать его происхождение, структуру, технику и методы политического мифотворчества.
Понять природу политического мифа помогают концепции мифотворчества М. Элиаде. Исследуя множество исторических событий и мифологию различных народов, он приходит к выводу, что историческое событие сохраняется для истории лишь коллективной памятью в качестве некоего архетипа. В коллективной памяти сохраняется лишь родовое, универсальное, архетипическое. Образ исторической личности выстраивается как прямой аналог мифическому прообразу, герою. Реальное историческое событие уподобляется и сливается с категорией мифических действий (борьба с чудовищем, братья-враги и т.д.).
Элиаде подчеркивал, что существует историческая непрерывность культуры и нет разрыва между архаикой и современностью, мифологическим мышлением и современными формами мифологизации сознания. В частности, в известной работе «Мифы, сновидения, мистерии» он утверждает, что миф представляет собой значительную форму коллективного мышлении, «современный мир все еще сохраняет следы мистического поведения: например, принятие всем обществом некоторых символов интерпретируется как сохранение коллективного мышления. Несложно показать, что функция национального флага со всем тем, что он подразумевает, совсем не отличается от “принятия” любого из символов архаических культур ... в плоскости общественной жизни нет разрыва в последовательной смене архаического и современного миров» [2, с. 23].
Мифы и сопутствующие им символы не исчезают из коллективного бессознательного, но и в современном мире в новых исторических и культурных условиях продолжают работать в несколько измененной и порой замаскированной форме. Причем Элиаде считал, что в современном обществе действуют политические мифы, которые отличаются масштабностью охвата социума, и социальные, соотносимые с человеческой жизнью.
Элиаде весьма точно уловил способность мифологического сознания идеализировать и демонстрировать в качестве прецедента, образца для подражания, историю одной человеческой жизни и превращать реальный исторический персонаж в яркий и запоминающийся миф. Механизм подобного рода мифологизации заключается в уподоблении исторической личности определенному архетипическому прообразу, в качестве которого выступает герой, антигерой, враг и т.п.
Характерно, что из образа исторической личности постепенно вытесняется все индивидуальное и в массовом сознании остается лишь подобие мифологического эталона, весьма отдаленно напоминающее черты индивида. Тот же самый механизм мифологизации работает, по-видимому, и в исторических интерпретациях определенных событий прошлого. Поэтому в массовом сознании сохраняется лишь обобщенный образ действительных событий, структурированный по мифологическим клише.
Таким образом, политический миф является существенной частью политической культуры общества, он целиком контекстуален, детерминирован политической культурой того общества, в котором он функционирует. Политическая культура данного общества является ресурсом, «кладовой» политических мифов, которые формируются в ней це- ленаправленно или спонтанно. Из актуальной и мемориальной политической культуры политический миф вбирает содержательные элементы, персонажей, основные сюжеты и энергию; она привносит в него своеобразие, специфику, понятную тем индивидам, которые являются субъектами данной политической культуры. Индивиды, находящиеся вне данной политической культуры, политического и культурного контекста, не смогут верно проинтерпретировать смысл политического мифа чужого общества, понять его истоки и законы функционирования и будут вынуждены для его верной интерпретации погрузиться в данный культурный и исторический контекст.
Политическая культура общества включает в качестве составной части мифологические представления о политической реальности, которые, несмотря на свой субъективный характер, оказывают вполне реальное воздействие на поведение людей и современные политические процессы. Мифологические модели мира лежат в основе ментальности, определяют своеобразие реакции общества на проведение тех или иных реформ и их успешность, на специфику модернизации, отношение к современным политическим событиям и историческому прошлому и т.п.