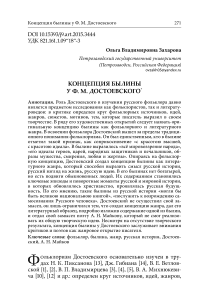Концепция былины у Ф. М. Достоевского
Автор: Захарова Ольга Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.13, 2015 года.
Бесплатный доступ
Роль Достоевского в изучении русского фольклора давно является предметом исследования как фольклористов, так и литературоведов: в критике определен круг фольклорных источников, идей, жанров, сюжетов, мотивов, тем, которые писатель выразил в своем творчестве. В ряду его художественных открытий следует назвать оригинальную концепцию былины как фольклорного и литературного жанра. В освоении фольклора Достоевский вышел за пределы традиционного понимания фольклоризма. Он был единственным, кто в былине отметил такой признак, как соприкосновение «с красотою высшей, с красотою идеала». В былине выразилось «всё мировоззрение народа», «его идеалы героев, царей, народных защитников и печальников, образы мужества, смирения, любви и жертвы». Опираясь на фольклорную концепцию, Достоевский создал концепцию былины как литературного жанра, который способен выразить смысл русской истории, русский взгляд на жизнь, русскую идею. В его былинах нет богатырей, но есть подвиги обыкновенных людей. Их содержанием становились ключевые эпизоды и поворотные моменты русской и мировой истории, в которых обновлялось христианство, проявлялась русская будущность. По его мнению, такие былины из русской истории «могли бы быть великою национальною книгой», «послужить к возрождению самосознания Русского человека». Достоевский не осуществил свой замысел, он лишь ограничился тем, что создал концепцию жанра, дал его литературный образец, подробно изложив содержание одной из былин, и отдал свой замысел поэту А. Н. Майкову, который не смог реализовать их общую творческую идею. Несмотря на отсутствие творческого результата, концепция былины у Достоевского заслуживает внимания критиков и поэтов как жанровое открытие писателя.
Фольклор, былина, жанр, русская история, достоевский, а. н. майков
Короткий адрес: https://sciup.org/14748932
IDR: 14748932 | DOI: 10.15393/j9.art.2015.3444
Текст научной статьи Концепция былины у Ф. М. Достоевского
Фольклоризм Достоевского основательно изучен в трудах Н. К. Пиксанова [13], Дж. Гибиана [14], В. Е. Ветлов-ской [1], [2], В. П. Владимирцева [3], [4], [5], В. А. Михнюкеви-ча [10], [12] и др.: определен круг источников, идей, жанров, сюжетов, мотивов, тем, которые вошли в художественный мир писателя. Тип героя и явление богатырства у Достоевского в сравнении с Гоголем проанализированы в статьях Капустиной [7], [8], [9].
У Достоевского была оригинальная концепция былины как фольклорного и литературного жанра. Как фольклорный жанр она описана в статье В. А. Михнюкевича [11], но исследователь не выявил степень оригинальности в понимании этого жанра писателем. Былина не выделена и в исследовании о жанрах и жанровой системе Достоевского [6], хотя ее жанровая концепция у Достоевского имеет безусловный литературный и теоретический интерес.
Концепцию былины в критике Достоевского можно реконструировать исходя из суждений писателя о Пушкине и русском духе, из его полемики об образовании, народе и красоте.
Достоевский был, пожалуй, единственным, кто в былине отметил такой признак жанра, как соприкосновение «съ красотою высшей, съ красотою идеала» 1 .
В былине, как в народных песнях, преданиях и сказаниях, выразилось «всё мировоззрение народа», «всё что любит и чтит народ», «его идеалы героев, царей, народных защитников и печальников, образы мужества, смирения, любви и жертвы» 2 .
Опираясь на фольклорную концепцию, Достоевский создал свою концепцию былины как литературного жанра, которую он подробно изложил Ап. Майкову 15/27 мая 1869 года, отвечая на его апрельское письмо, написанное в день похорон поэта Н. Ф. Щербины (умер 10 апреля).
Диалог поэта и романиста имеет важное литературнокритическое значение.
-
А. Н. Майков задумал цикл рассказов из русской истории для учащихся начальных школ, которые могут быть полезны «и чиновникамъ и свѣтскимъ дамамъ». Он исходил из того, что имеющиеся исторические сочинения сухи, тенденциозны, рассудочны, не достигают своей цели. Нужна другая — «живая исторiя»:
Я беру только капитальные эпохи, приурочивая ихъ къ извѣстнымъ для всѣхъ именамъ, и пишу живую исторiю, пишу чувствомъ и воображенiемъ, чтобы заставить почувствовать и вообразить3.
Ап. Майков кратко раскрыл свой замысел исторических рассказов, которые должны создать «въ душѣ читателя <…> представленiе о Россiи»:
Первый разсказъ: Владимiръ и принятiе христiанства.
-
2) Александръ Невскiй: нашествiе Татаръ, его страдальчество за русскую землю, или заповѣданное терпѣнiе русскому народу. 3, Москва: [бѣдн] маленькiй князь Ив<анъ> Данилычь и бесѣды его съ митрополитомъ Петромъ, собиранiе земли, Донской. 4. Взятiе Царьграда Турецкимъ султаномъ Магоме-томъ II, возникновенiе Третьяго Рима (Москва) бракъ съ Софьей, гербъ, упованiе востока, новая роль московскихъ царей, т. е. Иванъ II, Василiй, Иванъ IV — покоренiе магометанскихъ царствъ, и требованiя отчины Кiева и русскихъ земель отъ Литвы. Во всей исторiи проходятъ два врага Россiи: Азiя и Европа, тогда олицетворяемая Папой. Это все ужь написано. 5 е будетъ: Троицкая Лавра, т. е. [18] 1612 годъ, 6 й Кiевъ — судьбы Западной Россiи, Богданъ Хмѣльницкiй. 7 й Петръ: о Петрѣ мысль такая: апогея Москвы — Иванъ IV. Потомъ потрясенiе iезуитами и Польшей, Романовы — реставрацiя. Къ Петру уже возвращается Россiя на ту точку, какъ была за нѣсколько лѣтъ до смерти Грознаго, (т. е. до Баторiя) и Петръ продолжаетъ Ивана IV, который продолжаетъ Ивана III. Завоеванiе Балтiйскаго моря, и въ Турецкихъ войнахъ его — пробужденiе православiя на Балканѣ, гдѣ его царствованiе есть эра. Вотъ пока бы эти еще три разсказа написать и издамъ. 8 й объ Екатеринѣ — не сформировался въ идеѣ, но думаю, что это продолженiе Петра. 9. Европа проговорилась: нашествiе двудесяти языковъ. 10, сбросила маску: крымская война. 11. Освобожденiе крестьянъ /т. е. исторiя сословiй и осво-б<ожденiя> крестьянъ/, характеръ его въ восточной Россiи и въ западной — тамъ довѣрiе сословiю, здѣсь вражда и слѣдствiе того польскiй бунтъ4.
Свой замысел поэт реализовал частично. Его апрельское письмо предваряло публикацию в майском номере журнала
«Заря» за 1869 год первого рассказа «О святых Московских митрополитах Петре и Алексее и о славном Мамаевом побоище». Второй рассказ, опубликованный в августовском номере «Зари», включал следующие сюжеты: «I. Взятие турецким султаном Магометом II Константинополя. II. Москва — третий Рим. III. Покорение при царе всея Руси Иване Васильевиче Грозном мусульманских царств: Казанского, Астраханского и Сибирского» 5 . Эти публикации соответствуют третьему и четвертому эпизодам из изложенного Достоевскому замысла.
Достоевский отвечал А. Н. Майкову 15/27 мая 1869 года из Флоренции. Если на первую майскую публикацию поэта в «Заре» Достоевский не мог повлиять, то «второй рассказ» написан с учетом советов писателя.
Майков надеялся, что напишет поэтически, жаловался, что приходится много читать, «пока у самого не будетъ ясно въ головѣ» 6 , выражал уверенность в успехе Достоевского, возьмись он за дело.
Достоевский пытался вдохновить друга и поэта, напомнив обстоятельства их прошлогодней переписки:
…я писалъ къ Вамъ, полный серьознаго и глубокаго восторга, о новой идеѣ , пришедшей мнѣ въ голову, собственно для Васъ, для Вашей дѣятельности, — (т. е. если хотите идея пришла сама по себѣ, какъ нѣчто самостоятельное и для меня вполнѣ цѣлое, но такъ какъ самъ себя я никоимъ образомъ не могъ считать возможнымъ исполнителемъ этой идеи, то на-значилъ ее, въ желаніяхъ моихъ, для Васъ, естественно. Так даже, что можетъ она и родилась-то во мнѣ именно, какъ я уже сказалъ, для Васъ , или лучше сказать не раздѣльно съ образомъ в ашимъ , какъ поэта )7 .
Новая творческая идея заключалась в разработке отдельных эпизодов русской истории в поэмах.
18 февраля/1 марта 1868 года Достоевский писал Майкову:
Ваша «Софья Алексѣвна» — совершенная прелесть, но у меня мысль махнула: Какъ-бы хорошо могло-бы быть, ес-либъ вотъ этакая «Софья Алексѣевна» очутилась эпизодомъ въ цѣлой поэмѣ изъ того времени, т. е. поэмѣ раскольничей, или въ романѣ въ стихахъ изъ того времени. Неужели Вамъ такiя намѣренiя никогда не заходятъ въ голову? А такая поэма произвела-бы огромный эффектъ8.
Отклик Достоевского обрадовал поэта:
Чуть не по поводу каждаго стихотворенiя вы мнѣ говорите сдѣлать бы изъ него поэму. Это мнѣ очень прiятно: зна-читъ штука возбуждаетъ воображенiе, значитъ хватилъ вѣрно, — это и дѣло поэзiи двумя чертами возбудить образы, цѣлую драму, сквозь строкъ, значитъ, сквозитъ цѣлый мiръ. Слабость ли это, — но я этимъ доволенъ, и претензiй далѣе не простираю. Поэмы же писать — скучно! всталъ, пошелъ, прiѣхалъ... Полонскiй который разъ ужь обрывается!9 Ап. Майков считал, что поэма в современной литературе переродилась в другой жанр — она стала романом:
Поэма наша — это романъ, и романъ не въ стихахъ. Поэмы то — вы пишете!10
Месяц спустя 20 марта/2 апреля 1868 года Достоевский снова возвратился к своей идее, которой он хотел увлечь Майкова:
У меня есть одна мысль, для Васъ, но она требуетъ особа-го изложенiя, въ цѣломъ письмѣ, а теперь некогда. Скоро напишу. Мысль эта по поводу Вашей «Софьи Алексѣвны» у меня зародилась. И повѣрьте что серьозно, не смѣйтесь. Сами увидите что это за мысль! Я изложу. Это не романъ и не поэма. Но это такъ нужно, такъ будетъ необходимо, и такъ будетъ оригинально и ново и съ такимъ необходимымъ, русскимъ направленiемъ, что сами ахнете! Я Вамъ изложу програму. Жаль что не въ живомъ разговорѣ, а на письмѣ. Этимъ прославиться можно будетъ и, главное, это даже надо будетъ особой книгой издать, напечатавъ нѣсколько отрывковъ предварительно, а книга должна будетъ разойтись въ громадномъ числѣ экземпляровъ11 .
Год спустя, в цитированном майском письме 1869 года, Достоевский возвращается к этой идее.
В его концепции нового литературного жанра («нерома-на» и «непоэмы») ключевым понятием становится былина. Он не настаивает на этом понятии — его «ряд былин» можно назвать «балладами, песнями, маленькими поэмами, романсами» («как хотите»):
...идея моя состояла тогда въ томъ — (теперь я скажу только нѣсколько словъ про нее) — что могъ-бы появиться, въ увлекательныхъ, обаятельныхъ стихахъ, — въ такихъ стихахъ, которые сами по себѣ, безо всякаго усилія, наизусть заучиваются — чтò всегда бываетъ съ глубокими и прелестными стихами, — могъ-бы появиться, говорю я, рядъ былинъ (балладъ, пѣсней, маленькихъ поэмъ, романсовъ какъ хотите назовите; тутъ ужъ сущность и даже размѣръ стиховъ зависятъ отъ души поэта и являются вдругъ, совершенно готовые въ душѣ его, даже независимо отъ него самого…12
Сущность былины близка поэме. Как и поэма, она является таким жанром, в котором автор «даже не онъ и творецъ, а жизнь, могучая сущность жизни, богъ живой и сущій, совокопляющій свою силу въ многоразличіи созданія мѣстами , и чаще всего въ великомъ сердцѣ и въ сильномъ поэтѣ, такъ что если не самъ поэтъ творецъ, — (а съ этимъ надо согласиться, особенно Вамъ какъ знатоку и самому поэту, потому что вѣдь ужъ слишкомъ цѣльно, окончательно и готово является вдругъ изъ души поэта созданіе) — если не самъ онъ творецъ, то по крайней мѣрѣ душа-то его есть тотъ самый рудникъ, который зарождаетъ алмазы и безъ ко-тораго ихъ нигдѣ не найти» 13 .
В этом письме Достоевский дал концепцию былины как нового литературного жанра, который способен выразить смысл русской истории, русский взгляд, русскую идею:
Ну такъ вотъ, въ этомъ рядѣ былинъ, въ стихахъ (представляя себѣ эти былины, я представлялъ себѣ иногда Вашъ Констанскій соборъ) — воспроизвести, съ любовью и съ нашею мыслію, съ самаго начала, съ русскимъ взглядомъ, — всю русскую исторію, отмѣчая въ ней тѣ точки и пункты, въ кото-рыхъ она, временами и мѣстами, какъ-бы сосредоточивалась и выражалась вся, вдругъ, во всемъ своемъ цѣломъ. Такихъ всевыражающихъ пунктовъ, найдется, во все тысячелѣтіе до десяти, даже чуть-ли не больше. Ну вотъ схватить эти пункты и разсказать въ былинѣ, всѣмъ и каждому, но не какъ простую лѣтопись, нѣтъ, а какъ сердечную поэму, даже безъ строгой передачи факта (но только съ чрезвычайною ясностію) схватить главный пунктъ, и такъ передать его, чтобъ видно съ какой мыслію онъ вылился, съ какой любовью и мукою эта мысль досталась. Но безъ эгоизма, безъ словъ отъ себя, а наивно, какъ можно наивнѣе, только чтобъ одна любовь къ Россіи била го-рячимъ ключомъ — и болѣе ничего14.
Эти былины (баллады, поэмы) «могли бы быть великою національною книгой и послужить къ возрожденію само-сознанія Русскаго человѣка много. Помилуйте Аполлонъ Николаевичь! да вѣдь эти поэмы, всѣ мальчики въ школахъ будутъ знать и учить наизусть. Но заучивъ поэму, онъ зау-читъ вѣдь и мысль и взглядъ, и такъ-какъ этотъ взглядъ вѣренъ, то на всю жизнь въ душѣ его и останется. Такъ какъ это стихи и поэмы, сравнительно короткія, то вѣдь весь міръ читающій русскій прочтетъ ихъ, какъ Констанскій соборъ, который многіе до сихъ поръ наизусть знаютъ. И потому — это не просто поэмы и литературное занятіе, — это наука, это проповѣдь, это подвигъ» 15 .
Призывая поэта к подвигу, Достоевский не только дал оригинальную концепцию былины как литературного жанра, но и, по сути дела, дал его образец — изложил содержание одной задуманной былины:
Вообразите себѣ, что въ третьей или въ четвертой былинѣ (я ихъ всѣ въ умѣ тогда сочинилъ и долго потомъ со-чинялъ) у меня вышло взятіе Магометомъ16 2 мъ Константинополя (и это прямо и невольно явилось какъ былина изъ Русской исторіи , сама собою и безъ намѣренія; потомъ я самъ подивился какъ, безъ всякаго сомнѣнія и даже безъ обдумыванія и безъ сознанія, у меня такъ пришлось, что, взятіе Константинополя, я причелъ прямо къ Русской исторіи не усумнившись нимало). Вся эта катастрофа въ наивномъ и сжатомъ разсказѣ: турки облегли Царьградъ тѣсно; послѣдняя ночь передъ при-ступомъ, который былъ на зарѣ; послѣдній Императоръ, хо-дитъ по дворцу —
(«Король ходитъ большими шагами»)
идетъ молиться образу Влахернской Божіей Матери; Молитва; приступъ, бой; Султанъ съ окровавленной саблей въѣзжаетъ въ Константинополь. Трупъ послѣдняго Императора отыски-ваютъ по приказанію султана въ кучѣ убитыхъ, узнаютъ по орламъ вышитымъ на сапожкахъ, Святая Софія, дрожащій Патріархъ, послѣдняя обѣдня, Султанъ не слѣзая съ коня, ска-четъ по ступенямъ въ самый храмъ (historique), доскакавъ до средины храма останавливаетъ коня въ смущеніи, задумчиво и съ смятеніемъ озирается и выговариваетъ слова: «Вотъ домъ для молитвы Аллаху!» За тѣмъ выбрасываютъ иконы, пре-столъ, ломаютъ алтарь, становятъ мечеть, трупъ Императора хоронятъ, а въ Русскомъ царствѣ, послѣдняя изъ Палеологовъ является съ двуглавымъ орломъ вмѣсто приданаго; русская сватьба, Князь Иванъ III въ своей деревянной избѣ вмѣсто дворца, и въ эту деревянную избу переходитъ великая идея о всеправославномъ значеніи Россіи и полагается первой17 камень о будущемъ главенствѣ на Востокѣ, расширяется кругъ Русской будущности, полагается мысль, не только великаго государства, но и цѣлаго новаго міра, которому суждено обновить христіанство, всеславянской православной идеей и внести въ человѣчество новую мысль, когда загніетъ Западъ, а загніетъ онъ тогда, когда папа исказитъ Христа окончательно и тѣмъ зародитъ атеизмъ въ опоганившемся, западномъ человѣчествѣ.
Да и не эта одна мысль объ этой эпохѣ: была у меня мысль, рядомъ съ изображеніемъ деревянной избушки и въ ней умнаго, съ величавой и глубокой идеей Князя, въ бѣдныхъ одеждахъ Митрополита сидящаго съ Княземъ, и прижившейся въ Россіи «Ѳоминишны» — вдругъ, въ другой уже баладѣ перейти къ изображенію конца пятнадцатаго и начала 16 го столѣтія въ Европѣ, Италіи, Папства, искусства храмовъ, Рафаэля, поклоненія Аполлону Бельведерскому, первыхъ слу-ховъ о Реформѣ, о Лютерѣ, объ Америкѣ, объ золотѣ, объ Испаніи и Англіи, — цѣлая, горячая картина, въ #ль<параллель> со всѣми предыдущими русскими картинами, — но съ намеками о будущности этой картины, о будущей наукѣ, объ атеизмѣ, о правахъ человѣчества , сознанныхъ по Западному а не по нашему, чтò и послужило источникомъ всего, что есть и что будетъ18 .
Продолжая диалог, Достоевский изложил еще несколько сюжетов задуманных былин:
Въ горячей мысли моей я думалъ даже, что не надо кончать былины на Петрѣ напримѣръ, объ которомъ непремѣнно нужно особенное хорошее слово и хорошая поэма-былина съ смѣлымъ и откровеннымъ взглядомъ, нашимъ взглядомъ . Я-бы прошелъ до Бирона, до Екатерины и далѣе — я-бы прошелъ до освобожденія крестьянъ и до бояръ, разсыпавшихся по Европѣ съ послѣдними кредитными рублишками, до барынь блядую-щихъ съ Боргезанами, до семинаристовъ, проповѣдующихъ атеизмъ, до всегуманныхъ и всесвѣтныхъ гражданъ русскихъ графовъ, пишущихъ критики и повѣсти и т. д. и т. д. Поляки бы должны были занять много мѣста. Затѣмъ кончилъ-бы фантастическими картинами будущаго: Россіи черезъ два столѣтія, и рядомъ померкшей, изтерзанной и оскотинившейся Европы, съ ея цивилизаціей. Я-бы не остановился тутъ ни передъ какой фантазіей…
Вы считаете меня въ эту минуту конечно за сумасшедша-го, собственно и главное за то, что я такъ расписался, потому что обо всемъ этомъ надо говорить лично, а не писать, ибо въ письмѣ ничего понятно не передашь. н о я разгорячился19 . Возвращаясь к шестнадцатому веку, Достоевский затронул еще один сюжет, в котором выражаются государственная идея, «русское чувство , православное чувство единения с русским корнем»:
Объ Ермакѣ-же ничего Вамъ сказать не могу; вы конечно лучше знаете. По моему сначала казачье — удальство — бродяжничество и разбой. Потомъ уже указывается геніяльный человѣкъ подъ бараньимъ тулупомъ; угадываетъ колоссальность дѣла и будущее значеніе его, но уже тогда когда почти все дѣло пошло на ладъ и удачно обдѣлалось. Тутъ рождается русское чувство, православное чувство единенія съ русскимъ корнемъ, (даже непосредственное можетъ быть чувство въ родѣ тоски) — а изъ того выходитъ посольство и челобитье великому государю, выражающему въ понятіяхъ народа вполнѣ русскій народъ. (NB. Главное и полнѣйшее выраженіе этого понятія дошло до полнаго, послѣдняго своего развитія, знаете-ли когда по моему? Въ нашемъ столѣтіи. Разумѣется я говорю объ народѣ, а не о прогнившихъ боярахъ и семинаристахъ)20. Достоевский вдохновенно увлекал поэта, убеждал, что в этих былинах заключается его будущая поэтическая карьера:
Когда я прошлаго года хотѣлъ писать Вамъ и склонить Васъ, чтобъ Вы принялись за эту мысль, я думалъ про себя: да какъ я передамъ ему, чтобъ онъ понялъ меня совершенно? — и вдругъ, черезъ годъ, вы сами вдохновляетесь той же самой идеей и находите нужнымъ ее писать! Значитъ идея вѣрна! Но одно, одно надо и непремѣнно: Надо чтобъ поэмы были необыкновенной поэтической прелести, чтобъ увлекли и увлекли непремѣнно, увлекли до невольнаго заучиванія. Другъ мой! вспомните, что можетъ быть вся ваша поэтическая карьера, до сихъ поръ была только одно предисловіе , введеніе и что теперь только придется Вамъ вполнѣ по силамъ сказать новое слово , Ваше новое слово ! И потому смотрите на дѣло серьознѣе, глубже и больше восторга. А главное, — простоты и наивности больше. Да вотъ еще: пишите рифмой, а не старымъ русскимъ размѣромъ. Не смѣйтесь! Это важно: Теперь рифма — народна, а старый русскій размѣръ — академизмъ . Ни одно сочиненіе бѣлыми стихами наизусть не заучивается. Народъ уже не со-чиняетъ пѣсенъ прежнимъ размѣромъ, а сочиняетъ въ риф-махъ. Если не будетъ рифмы, (и не будетъ почаще хорея) — право вы дѣло погубите. Можете надо мной смѣяться, но я правду говорю! грубую правду!21
Писатель еще не знал, что свои рассказы из русской истории Аполлон Майков писал не в стихах, а в прозе. Поэту Майкову не удалось исполнить то, к чему призвал его Достоевский, который умел писать поэмы в прозе (например, «Великий инквизитор» в «Братьях Карамазовых»).
Достоевский мог бы написать эти былины из русской истории, но он создал лишь концепцию жанра и отдал свой замысел Майкову, который лишь отчасти исполнил общую для каждого идею. Никто, кроме Достоевского, не мог бы реализовать концепцию былины как нового литературного жанра, но соперничества с Майковым писатель не мыслил.
В его былинах нет богатырей, но есть подвиги обыкновенных людей. Их содержанием становились ключевые эпизоды и поворотные моменты русской и мировой истории, в которых обновлялось христианство, проявлялась русская будущность.
Примечания
* Исследование выполнено по гранту Министерства образования и науки России «Новые источниковедческие и текстологические исследования русской словесности XIX–XX вв.» (№ 34.1126).
-
1 Ср.: «И тогда только очищается чувство, когда соприкасается съ красотою высшей, съ красотою идеала. Это соприкосновенiе съ красотою идеала есть и въ былинахъ нашихъ, и въ сильной степени. Тамъ есть удивительные типы Ильи-Муромца, и фантастическаго Святогора и проч.». — РГАЛИ. Ф. 212.1.16. С. 26.
-
2 Ср.: «Русский дух разлит в творениях Пушкина, русская жилка бьется везде. В великих, неподражаемых, несравненных песнях будто бы западных славян, но которые суть явно порождение русского великого духа, вылилось всё воззрение русского на братьев славян, вылилось всё сердце русское, объявилось всё мировоззрение народа, сохраняющееся и доселе в его песнях, былинах, преданиях, сказаниях, высказалось всё что любит и чтит народ, выразились его идеалы героев, царей, народных защитников и печальников, образы мужества, смирения, любви и жертвы» [6; 12, 303].
-
3 Письмо А. Н. Майкова к Ф. М. Достоевскому за 1869 г. // НИОР РГБ. 93.II.6.43. Л. 4 об.
-
4 Там же. Л. 5 об.
-
5 В публикации этого рассказа дана рубрикация текста, отличающаяся от его развернутого заглавия: 1. «Взятiе турками Константинополя». 2. «Москва — Третiй Римъ». 3. «Царь Иванъ Васильевичъ Грозный. Покоренiе Казани и Астрахани». 4. «Завоеванiе Сибири». См.: Май-ковъ А. Изъ разсказовъ о русской исторiи. Взятiе турецкимъ султаномъ Магометомъ II Константинополя. Москва — третiй Римъ. Покоренiе, при царѣ всея Руси Иванѣ Васильевичѣ Грозномъ, мусульманскихъ царствъ: казанскаго, астраханскаго и сибирскаго // Заря. 1869. № 8. С. 1, 13, 22, 36. Орфографические разночтения вызваны недостатками корректуры в журнале.
-
6 Письмо А. Н. Майкова к Ф. М. Достоевскому за 1869 год // НИОР РГБ. 93.II.6.43. Л. 5.
-
7 Письмо Ф. М. Достоевского к А. Н. Майкову от 15/27 мая 1869 года // РО ИРЛИ. Ф. 168. № 16640. Л. 71–71 об.
-
8 Письмо Ф. М. Достоевского к А. Н. Майкову от 18 февраля/1 марта 1868 года // Там же. Л. 33.
-
9 Письмо А. Н. Майкова к Ф. М. Достоевскому за 1868 год // НИОР РГБ. 93.II.6.42. Л. 5 об.
-
10 Там же.
-
11 Письмо Ф. М. Достоевского к А. Н. Майкову от 20 марта/2 апреля 1868 года // РО ИРЛИ. Ф. 168. № 16640. Л. 49.
-
12 Письмо Ф. М. Достоевского к А. Н. Майкову от 15/27 мая 1869 года // РО ИРЛИ. Ф. 168. № 16640. Л. 71 об.
-
13 Письмо Ф. М. Достоевского к А. Н. Майкову от 15/27 мая 1869 года // РО ИРЛИ. Ф. 168. № 16640. Л. 71 об.
-
14 Письмо Ф. М. Достоевского к А. Н. Майкову от 15/27 мая 1869 года // РО ИРЛИ. Ф. 168. № 16640. Л. 72.
-
15 Письмо Ф. М. Достоевского к А. Н. Майкову от 15/27 мая 1869 года // РО ИРЛИ. Ф. 168. № 16640. Л. 73 об.
-
16 В рукописи : Могаметомъ
-
17 Так в рукописи .
-
18 Письмо Ф. М. Достоевского к А. Н. Майкову от 15/27 мая 1869 года // РО ИРЛИ. Ф. 168. № 16640. Л. 72, 72 об., 73.
-
19 Письмо Ф. М. Достоевского к А. Н. Майкову от 15/27 мая 1869 года // РО ИРЛИ. Ф. 168. № 16640. Л. 73, 73 об.
-
20 Письмо Ф. М. Достоевского к А. Н. Майкову от 15/27 мая 1869 года // РО ИРЛИ. Ф. 168. № 16640. Л. 74.
-
21 Письмо Ф. М. Достоевского к А. Н. Майкову от 15/27 мая 1869 года // РО ИРЛИ. Ф. 168. № 16640. Л. 73 об., 74.
Список литературы Концепция былины у Ф. М. Достоевского
- Ветловская В. Е. Литературные и фольклорные источники «Братьев Карамазовых» (Житие Алексея человека Божия и духовный стих о нем)//Достоевский и русские писатели. Традиции. Новаторство. Мастерство. -М.: Советский писатель, 1971. -С. 325-354.
- Ветловская В. Е. Ф. М. Достоевский//Русская литература и фольклор: вторая половина XIX века. -Л.: Наука, 1982. -С. 12-75.
- Владимирцев В. П. Достоевский и русская этнологическая культура//Ф. М. Достоевский и национальная культура. -Челябинск, 1994. -Вып. 1. -С. 60-90.
- Владимирцев В. П. Фольклоризм//Достоевский: Эстетика и поэтика. Словарь-справочник. -Челябинск: Металл, 1997. -С. 125-128.
- Владимирцев В. П. Достоевский народный: Ф. М. Достоевский и русская этнологическая культура: статьи. Очерки. Этюды. Комплекс ист.-лит. исслед. -Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2007. -459 с.
- Захаров В. Н. Система жанров Достоевского: Типология и поэтика. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. -208 с.
- Зябрева Г. А., Капустина С. В. Художественный концепт «богатырство» в творчестве Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского//Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». 2011. Т. 24 (63). № 1. С. 114-123.
- Капустина С. В. Богатырство как христианское служение в миру (на материале прозы Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского) . URL: http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_994/content/kapustina.pdf (20.08.2015).
- Капустина С. В. Феномен богатырства в трактовке Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2014. Вып. 12: Евангельский текст в русской литературе XII-XXI веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 9. С. 233-242.
- Михнюкевич В. А. Русский фольклор в художественной системе Ф. М. Достоевского. -Челябинск: Изд-во Челябинского ун-та, 1994. -313 с.
- Михнюкевич В. А. Былины//Достоевский: Эстетика и поэтика. Словарь-справочник. -Челябинск: Металл, 1997. -С. 142.
- Михнюкевич В. А. Фольклоризм//Достоевский: Эстетика и поэтика. Словарь-справочник. -Челябинск: Металл, 1997. -С. 123-125.
- Пиксанов Н. К. Достоевский и фольклор//Советская этнография. 1934. № 1-2. -С. 152-180.
- Gibian G. Dostoevsky’s use of Russian Folklore//Slavic folklore: A symposium/Ed. by A. B. Lord; Philadelphia. 1956, vol. 3, pp. 262-270.