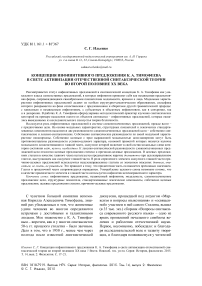Концепция инфинитивного предложения К. А. Тимофеева в свете активизации отечественной синтаксической теории во второй половине XX века
Автор: Ильенко Сакмара Георгиевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: К 100-летию со дня рождения профессора Кирилла Алексеевича Тимофеева
Статья в выпуске: 2 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается статус инфинитивных предложений в синтаксической концепции К. А. Тимофеева как уникального класса односоставных предложений, в которых инфинитив проявляет себя как независимая предикативная форма, сопровождающаяся своеобразными показателями модальности, времени и лица. Модальные характеристики инфинитивных предложений делают их особым структурно-семантическим образованием, специфика которого раскрывается на фоне сопоставления с предложениями и оборотами другой грамматической природы: с зависимым и независимым инфинитивом, с субъектным и объектным инфинитивом, как в синхронии, так и в диахронии. В работах К. А. Тимофеева сформулирован методологический ориентир изучения синтаксических категорий на примере выделения одного из объектов синтаксиса - инфинитивных предложений, которые оказались выведенными из исследовательскогозахолустья теориибезличности. Исследуется роль инфинитивных предложений в системе сложноподчиненных предложений, прежде всего - с придаточными цели. На основе модальных характеристик, структурных показателей и лексических стандартизованных компонентов выделяется две разновидности сложноподчиненных предложений цели - собственно синтаксические и лексико-синтаксические. Собственно синтаксические разновидности по своей модальной характеристике неоднородны. Собственно целевым с ярко выраженной модальностью цели-намерения могут быть противопоставлены разновидности условно-целевого характера, основной приметой которых является наличие модальности долженствования в главной части, сказуемое которой включает в свой состав модальные слова категории состояния надо, нужно, необходимо. К лексико-синтаксической разновидности сложноподчиненных предложений цели относятся целевые предложения степени и причинно-целевые предложения. В целевых предложениях степени в качестве главного члена используется предикативное наречие достаточно при целенаправленном глаголе, выступающем как сказуемое главной части. В роли спрягаемого элемента сказуемого главной части причинно-целевых предложений используются нецеленаправленные глаголы со значением опасения: бояться, опа саться, не сметь, не решаться. Это приводит к тому, что придаточная часть осложняется причинным значением. Глагол в придаточной части сопровождается отрицанием. Употребление целевого союза возможно потому, что в качестве присвязочного элементавглавнойчастииспользуетсяинфинитив целенаправленного характера.
Инфинитивное предложение, сложноподчиненное предложение цели, независимый инфинитив, модальность, структурные показатели, стандартизованные лексические компоненты, собственно целевые предложения, целевые предложения степени, причинно-целевые предложения
Короткий адрес: https://sciup.org/147219280
IDR: 147219280 | УДК: 811.161.1
Текст научной статьи Концепция инфинитивного предложения К. А. Тимофеева в свете активизации отечественной синтаксической теории во второй половине XX века
С чувством большой симпатии вспоминая Кирилла Алексеевича Тимофеева, лишний раз убеждаешься в том, что жизненные удачи человека во многом определяются встречами с достойными и талантливыми людьми. Мое знакомство с К. А. Тимофеевым – впрочем, как и у многих синтаксистов 50-х гг. прошлого столетия – было заочным. Дело в том, что в 1950 г., менее чем через полгода после известной лингвистической дискуссии, прошедшей под лозунгом «Марксизм и вопросы языкознания» и «освященной» участием в ней самого Сталина, вышел (в 35 тыс. экз.) сборник «Вопросы синтаксиса современного русского языка» – одно из ярких проявлений печального симбиоза величия и раболепия отечественной науки. Первое, несомненно, побеждало: и благодаря исследовательской воле и таланту творящих, и благодаря появившемуся у читателей
Ильенко С. Г. Концепция инфинитивного предложения К. А. Тимофеева в свете активизации отечественной синтаксической теории во второй половине XX века // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 2: Филология. С. 17–21.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 2: Филология
опыту распознавать научную истину, оценивая вульгарную идеологизированную приправу так, как она того заслуживала. В самом деле, не только сегодня, но и в то время весьма скептически и даже иронически воспринималось высказывание: « Согласно указаниям И. В. Сталина грамматика – учение о строе слова и строе предложения, в отвлечении от конкретно-материального значения слова и предложения» [Вопросы синтаксиса…, 1950. С. 36] (здесь и далее подчеркнуто мной. – С. И. ) – или такое упоминание о наследии А. М. Пешковского: «…лингвистические труды А. М. Пешков-ского не только не соответствуют, но и сущностно противоречат методологическим установкам и требованиям советского языкознания » – и далее: «А. М. Пешковский в своих синтаксических построениях был очень далек от того понимания языка, которое так просто, сжато и полно выражено И. В. Сталиным… » [Там же. С. 74]. А ведь эти высказывания принадлежат академику В. В. Виноградову, ученому поистине гениальному, родоначальнику многих направлений отечественной русистики. Именно он собирает и редактирует выдающийся синтаксический сборник 1950 г., во многом предопределивший пути дальнейшего изучения основных единиц синтаксиса: словосочетания (В. П. Сухотин), предложения – простого (К. А. Тимофеев) и сложного (Н. С. Поспелов, И. А. Попова, С. Е. Крючков).
Показательно, что при вторичной публикации статьи 1950 г. «Идеалистические основы системы проф. А. М. Пешковского, ее эклектизм и внутренние противоречия» в томе «Исследования по русской грамматике» избранных трудов В. В. Виноградова (М., 1975) редактор Н. Ю. Шведова стыдливо опустила ссылки, цитаты и «восторженную» интерпретацию сталинской статьи «Относительно марксизма в языкознании». Однако вряд ли было целесообразно популяризировать в 70-е гг. эту статью, отражающую явно неудачный эпизод в научной деятельности большого ученого. Речь идет не о замалчивании недугов советского языкознания, порожденных жесткими (и даже жестокими) оковами не только общественно-политического тоталитаризма, но и тоталитаризма культурно-интеллектуального. Речь идет о жанровой неуместности воспроизведения ошибок.
Но вернемся к обобщению выдающейся роли синтаксического сборника 1950 г. в целом и статьи К. А. Тимофеева «Об основных типах инфинитивных предложений в современном русском литературном языке» в частности. Заслугой К. А. Тимофеева (на Сталина, кстати, не ссылавшегося) является прежде всего возведение на пьедестал лингвистической исключительности уникального класса инфинитивных односоставных предложений, в которых инфинитив обнаруживает себя как независимая форма, способная реализовать предикативность, сопровождающуюся своеобразными показателями модальности, времени и лица. Анализ специфичности модальных характеристик этого уникального и весьма самобытного структурно-семантического образования, в котором был обнаружен, с одной стороны, собственно предложенческий класс, а с другой – класс так называемых синтаксических оборотов; анализ, тщательно проведенный на большом фактическом материале, а главное – с постоянным учетом сущностной грамматической природы инфинитива как зависимого, так и независимого, как субъектного, так и объектного, как в синхронии, так и в диахронии – представал перед читателями в качестве впечатляющего методологического ориентира при изучении синтаксических категорий. Не говоря уже о том, что инфинитивные предложения оказались выведенными из исследовательского захолустья теории безличности. Показательно, что в этом же сборнике была опубликована статья «Безличные предложения в современном русском языке», автор которой, Е. М. Галкина-Федорук, отнюдь не разделяла точку зрения К. А. Тимофеева: «Я расхожусь, – писала она, – в понимании грамматической природы инфинитивных предложений с К. А. Тимофеевым и отношу их к безличным» [Вопросы синтаксиса…, 1950. С. 304]. Это, однако, уже не убеждало.
Меня же в будущем ожидала встреча с Кириллом Алексеевичем уже как с коллегой по кафедре русского языка ЛГПИ им. А. И. Герцена. С его приходом «синтаксическая жизнь» на нашей кафедре заметно оживилась. Кстати, именно в этот период (точнее – в 1962 г.) вышло правительственное постановление о докторантуре, по которому преподаватели вузов, работающие над докторскими диссертациями и выполнившие не менее чем 50 % предполагаемого объема, имели право быть освобожденными от учебной нагрузки и перейти на должность старшего научного сотрудника для завершения исследования, пройдя соответствующую экспертизу. Одним из моих экспертов был Кирилл Алексеевич. В этом фрагменте воспоминаний мне не обойтись без эмоционального восклицания: «Дай Бог каждому таких экспертов – и не только в профессиональной жизни!» Это был отзыв не только профессионала самого высокого класса, естественно, увидевшего и «заслуги», и огрехи рецензируемой рукописи и уже этим оказавшим необходимую помощь автору. Это был отзыв в высшей степени доброжелательного человека, заинтересованного как в успехе конкретного предприятия, так и в деле обогащения любимой им лингвистики новыми поисками синтаксических истин, невзирая на степень их значимости.
Этот первый отзыв имел свое продолжение. Именно Новосибирск был пунктом внешнего отзыва о моей уже завершенной в 1964 г. диссертации. Отзыв был весьма положительный. Оформление его пало на могучие плечи А. И. Федорова, который сопроводил написанный им положительный отзыв очень лестным личным письмом ко мне, душевным и, главное, умело подбадривающим. Не могу не воспользоваться случаем поблагодарить его.
Вспоминая К. А. Тимофеева, я поймала себя на мысли о том, что работы крупного ученого иной раз становятся своеобразным паролем в опознавании «человека своего круга» и, как следствие, сближении с ним. У меня это было дважды. Один раз – в отношениях с Ириной Александровной Поповой, едва ли не первый разговор с которой начался с обсуждения сборника 1950 г., в том числе и статьи К. А. Тимофеева, к которой И. А. Попова относилась с истинной увлеченностью. Второй случай произошел во время моей поездки в ГДР в 1978 г., где я познакомилась с доктором Вальтером Виттом, заведующим кафедрой русского языка в Потсдаме. Разговор с ним начался не без некоторой напряженности; но когда вдруг оказалось, что его первые работы были посвящены инфинитивным предложениям в поваренных книгах и что ему очень помогли статьи К. А. Тимофеева, которые он знал чуть ли не наизусть, и когда я, со своей стороны, обозначила свою причастность к деятельности Кирилла Алексеевича, мы ощутили внутреннее облегчение и сразу почувствовали друг к другу человеческую симпатию.
Синтаксические труды К. А. Тимофеева всегда были востребованы. Они сыграли существенную роль и в развитии теории сложноподчиненного предложения (СПП). Не имея возможности сколько-нибудь подробно затрагивать вопрос о роли инфинитивных предложений в системе СПП, упомяну об их широком использовании в СПП с придаточным цели (СПП цели ).
Пристальное внимание к модальным характеристикам, а также учет не только собственно структурных показателей СПП, но и лексических стандартизованных компонентов, что вытекало из общего понимания предложения как данности, обладающей функциональной нагруженностью, позволило выделить в системе СПП цели две разновидности: 1) собственно синтаксические: Я приехал в деревню , чтобы поселиться в ней навсегда (М. Е. Салтыков-Щедрин. Дворянская хандра) и 2) лексико-синтаксические: Розоватого света лампы было достаточно для того , чтобы ясно видеть каждую черточку лица (М. Горький. Нищенка).
Собственно синтаксические разновидности по своей модальной характеристике неоднородны. Собственно целевым (с ярко выраженной модальностью цели – намерения), составляющим бóльшую часть СПП цели , могут быть противопоставлены разновидности условно-целевого характера, основной приметой которых является наличие модальности долженствования в главной части, сказуемое которой включает в свой состав или модальные слова категории состояния ( надо , нужно , необходимо ): Нужно быть Пикассо , чтобы сделать такую голубку (И. Эренбург. Люди, годы, жизнь), – или краткие прилагательные ( должен ): Чтобы быть ясным , оратор должен быть откровенным (В. О. Ключевский. Афоризмы).
Что касается СПП цели лексико-синтаксической разновидности, то ими являются 1) целевые предложения степени: У вас достаточно сил и средств , чтобы добиться победы (Ф. Гладков. Энергия) – и 2) причинно-целевые: Обычно партизаны ходили ночью и старались ступать тихо , веточку боялись тронуть , чтобы не производить шума (Д. Медведев. Это было под Ровно.
Отец и дочь). Выделение лексико-синтаксической разновидности СПП цели расширяет наши представления о лексико-синтаксической координации в системе сложного предложения.
В самом деле, существование СПП цели со значением степени оказывается возможным при соблюдении одного из двух условий: 1) использования в качестве главного члена предикативного наречия достаточно или 2) использования данного наречия при целенаправленном глаголе, выступающем в качестве сказуемого главной части: (1) Этой одной фамилии было достаточно , чтобы весь банк встрепенулся (Д. Н. Мамин-Сибиряк. Хлеб); (2) Кутузову достаточно было взглянуть на растянутые линии русской позиции под Фидлэндом , чтобы понять , что это сражение и должно было быть проиграно (Л. Рубинштейн. Дорога победы).
Главная часть подобных предложений может быть не только утвердительной, но и отрицательной: Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды , в которую попал , недостаточно прочесть только Пикквика и вызубрить монолог Фауста (А. П. Чехов. Письмо Н. П. Чехову).
Говоря об использовании в главной части наречия достаточно при глаголе-сказуемом, мы не случайно подчеркнули целенаправленный характер последнего, так как в противном случае (при использовании слова достаточно при глаголе нецеленаправленного действия) значение названной конструкции меняется: СПП цели , по существу, превращается во взаимоподчиненное предложение количественно-следственного характера: Нет , Лариса уже достаточно устала от жизни , чтобы заниматься перевоспитанием взрослого человека (А. Коптяева. Дерзание).
Лексическая обусловленность структуры СППцели проявляется и в причинно-целевой разновидности: Солдаты не решались выпрыгнуть, чтобы не разбежались другие арестованные (А. Фадеев. Молодая гвардия). Для предложений данного вида характерно использование в качестве спрягаемого элемента сказуемого главной части глагола со значением опасения, т. е такого глагола, который не может носить целенаправленного характера: бояться, опасаться, не сметь, не решаться; для придаточной части характерно использование глагола, имеющего при себе отрицание: Я замирала, не смела обернуться, чтобы не увидеть того, кого не существовало (В. Инбер. Славка). Таким образом, использование в качестве спрягаемого элемента сказуемого главной части глаголов опасения (сугубо нецеленаправленных глаголов) и приводит к тому, что придаточная часть осложняется причинным значением. Употребление же целевого союза оказывается возможным потому, что в качестве присвязочного элемента в главной части используется инфинитив целенаправленного характера: – Приехал? – быстрым шепотом спросила Наташа, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить засыпающего ребенка (Л. Толстой. Война и мир).
В заключение не могу не сказать, что идеи К. А. Тимофеева для кафедры русского языка РГПУ им. А. И. Герцена продолжают жить как в читаемых курсах по синтаксису, так и в исследовательской практике, свидетельством чего является статья М. Я. Ды-марского «Инфинитивные высказывания с контроптативным значением : предварительные наблюдения», опубликованная в данном выпуске.
The following article studies the role of infinitive sentences in the system of complex sentences, particularly sentences with clauses of purpose. On the basis of modal characteristics, structural markers and standardized lexical components, two types of complex sentences with clauses of purpose may be distinguished: syntactic and lexical-syntactic. Syntactic types are non-homogeneous in their modal characteristics. Purpose sentences with pronounced modality of purpose-intent may be compared to the variation of the cause-purpose nature, the main marker of which is the presence of modality of necessity in the independent clause, the predicate of which includes the modal words of category of state such as надо , нужно , необходимо ‘necessary’. Purpose sentences of measure and cause-purpose sentences are viewed as a lexical-syntactic variant of complex sentences of purpose. In purpose sentences of measure, the main part is a predicative adverb достаточно ‘enough’ combined with a purpose verb used as a predicate of the independent clause. As an inflective element of the predicate of the independent clause of the cause-purpose sentences, non-purpose verbs with the meaning of apprehension are used: бояться ‘to be afraid’, опасаться ‘to be afraid’, не сметь ‘to not dare’, не решаться ‘to hesitate’. In such cases, the dependent clause is complicated by a meaning of cause. The verb in the dependent clause is accompanied by negation. The usage of a purpose conjunction is possible because the purpose infinitive is used in the independent clause as a connecting element.
Список литературы Концепция инфинитивного предложения К. А. Тимофеева в свете активизации отечественной синтаксической теории во второй половине XX века
- Вопросы синтаксиса современного русского языка: Сб. ст. / Под ред. В. В. Виноградова. М., 1950