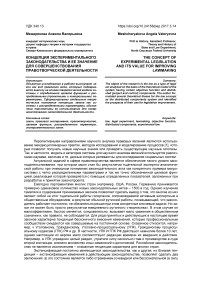Концепция экспериментального законодательства и ее значение для совершенствования правотворческой деятельности
Автор: Мещерякова Анжела Валерьевна
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
Объектом исследования в работе выступает закон как вид правового акта, который подвергается анализу на основе теоретической модели системы с определенной целевой функцией и распределенными (проектными и контрольными) параметрами. Сформулированы отдельные теоретические положения концепции закона как системы с распределенными параметрами, обозначены перспективы ее использования для совершенствования законодательной деятельности.
Закон, правовой эксперимент, правотворчество, целевая функция, распределенные параметры, экспериментальный закон
Короткий адрес: https://sciup.org/14932094
IDR: 14932094 | УДК: 340.13 | DOI: 10.24158/pep.2017.3.14
Текст научной статьи Концепция экспериментального законодательства и ее значение для совершенствования правотворческой деятельности
ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Перспективными направлениями научного анализа правовых явлений являются использование междисциплинарных практик, методов исследований и моделирование процессов [1], которые позволят получать новые научные знания или проверять существующие научные гипотезы. Так, в частности, модель и категория системы для научного анализа явлений используется различными науками, включая и те, данные которых релевантны для исследования социальных систем.
Актуальной задачей в сфере правотворчества является обеспечение такого уровня зако-нодательствования, при котором закон стал бы результатом тщательной экспертно-аналитической работы при очевидном понимании законодательного акта как конкретного примера микросистемы с четко распределенными параметрами и так же точно обозначенной целевой функцией, реализация которой проверяется с помощью определенных показателей, заложенных при разработке и принятии законопроекта.
Ежегодно парламентами многих стран (например, США, России, Германии) принимается примерно одинаковое количество новых законодательных актов – 1500 в год. Однако изучение тематики и содержания принимаемых законов позволяет сделать вывод о том, что многие из них являют собой не итог тщательной работы госорганов, сопровождаемой активным экспертным и общественным обсуждением, а результат обычной рутинной работы, показывающей, что законодатель работает постоянно, не обязательно решая при этом конкретные ключевые задачи. Но закон не может быть просто результатом ежедневного рутинного «творчества». В этом случае он малоэффективен, быстро меняется, следовательно, вызывает мало уважения в общественном сознании и, как правило, не соблюдается. Для ряда принятых и действующих в настоящее время законов характерна тенденция бесконечного внесения изменений, которые профессиональным сообществом ожидаются как совершаемые на постоянной основе. Сказанное относится, например, к Уголовному, Гражданскому, Уголовно-процессуальному (УПК), Гражданскому процессуальному кодексам (ГПК) РФ и др. В частности, УПК И ГПК РФ действуют немногим более 10 лет, однако настоящие их версии мало соответствуют редакции времени их введения в действие. Например, в УПК упразднен целый раздел, утратили силу несколько глав о производстве в суде второй инстанции, внесено множество иных изменений и дополнений. Российское законодательство не является исключением – описанная тенденция характерна для многих стран.
Экстенсификация постоянно меняющегося законодательства, как и другая, но близкая тенденция – экстенсификация изменений в действующем законодательстве, позволяет сделать два заключения: а) это состояние является либо отражением (очевидной или бессознательной (в силу общего уровня образования и профессиональной культуры)) неспособности законодателя угнаться за развивающимися отношениями в обществе, верно рефлексировать общественные потребности и интересы либо б) отражением стремления законодателя решить проблемы неурегулированности тех или иных сторон общественной жизни быстро путем стандартного, формулярного законописа-ния по любому поводу, что создает видимость активной работы законодателя над созданием законов и переносит всю ответственность на исполнителей, которые реализуют его не так, как задумано. Для публичных выступлений многих современных парламентариев типично утверждение о том, что с их (законодателей) стороны делается практически все, что может быть сделано, однако какие-то «иные» субъекты правовых и политических процессов мешают реализации их намерений. Такая позиция законодателей может говорить лишь о слабости их правосознания и непонимании конкретной целевой функции, которую должен выполнять принимаемый закон.
Известный американский правовед ХХ в. Л. Фуллер в большом аллегорическом вступлении ко второй главе его работы «Мораль права», описывая способы и причины потерпеть неудачу при составлении новых законов, обсуждал проблему кризиса законности при чрезмерной экстенсифи-кации законодательства [2, с. 47–55]. С одной стороны, речь идет о том, что законы, которые постоянно меняются, зачастую хуже состояния, когда они вообще отсутствуют. С другой стороны, очевидно утрачивается связь законодателя с народом, нарушается описанная социологом Г. Зиммелем «взаимность относительно соблюдения законов» [3, с. 57]. Л. Фуллер, ссылаясь на исторический пример тоталитарных режимов, справедливо отмечает, что увлечение бесконечно увеличивающимся законодательствованием, часто не обеспеченным адекватными исполнительными и исполнительскими механизмами, избирательное применение отдельных норм или реагирование на неисполнение или нарушение законов лишь в случае существенного обострения ситуации и т. п. ведут к тому, что «наступает всеобщий и решительный упадок законности даже при том, что ни по одному из перечисленных выше направлений (способов потерпеть неудачу при написании законов. – доб. нами ) дело не дошло до полного провала» [4, с. 54].
В современной правовой литературе (как российской, так и зарубежной) использование экспериментальных методов рассматривается как один из возможных способов преодоления кризисных тенденций в сфере законодательства [5]. Экспериментальным путем могут быть получены необходимые сведения для разработки и принятия долгосрочных законов, как и такие сведения, которые позволят отказаться от использования долгосрочного закона, которым может быть вызвана ситуация еще большей правовой неопределенности и избыточности законодательного массива [6].
В широком спектре оценок роли экспериментального законодательства превалируют гносеологические характеристики, которыми определяется конструктивная функция экспериментальных правовых актов для формирования соответствующей модели правового регулирования. Но редко появляются и такие оценки экспериментального законодательства, как форма «политического компромисса» [7, S. 92], «тенденция квази онаучивания политики» [8, S. 93], «средство законодательного самоконтроля» [9].
Так, в частности, М. Клепфер полагает, что экспериментальное законодательство может служить для создания впечатления, что «совершаются определенные политические действия, не затронув при этом что бы то ни было на широком пространстве» [10, S. 92], либо как «инструмент тактики долгосрочного осуществления… или, напротив, долгосрочного уклонения от определенных политических решений» [11].
Экспериментальный закон является в последнем контексте важным средством современной политики, которое как предлагает ее субъектам возможность достижения компромисса или получения отсрочки в принятии политического решения, так и может быть использовано для манипуляции основными принципами и целями законодательной политики в угоду узкокорпоративным политическим интересам. В связи с этим необходимость развития понимания закона как системного акта с четко определенной целевой функцией, распределенными на этапах разработки проекта и последующего за введением в действие анализа основных достижений и результатов параметрами становится актуальной доктринальной и политико-правовой задачей.
Для сферы экспериментального законодательства формулирование основной целевой функции закона ограничивается отсутствием достаточных данных о способах решения той или иной задачи. Целевая функция для любого закона – это зависимая величина, определяемая параметрами на этапе проектирования, т. е. заданными (распределенными) параметрами. В процессе реализации закона эта величина достигает максимума или минимума. При анализе результатов действия закона должны быть найдены такие значения проектных параметров, которые определенно демонстрируют реализацию целевой функции в заданном направлении. В связи с этим целевая функция является критерием качества закона, который при таком подходе приобретает свойства проектного акта, который может и должен быть подвергнут рациональному анализу и контролю.
Если законодатель не располагает соответствующими данными и они не могут быть получены исследовательским путем, то, очевидно, в этих условиях вполне логично использовать гно- сеологический потенциал экспериментального законодательства. В данном случае может использоваться как закон с ограниченным сроком действия (например, на 10 лет с целью сначала минимизации, а затем полного искоренения использования допинга в профессиональном спорте), так и модель экспериментального закона (с тем чтобы получить недостающие сведения о реальных показателях состояния проблем с использованием допинга). При таком подходе можно будет реально оценить состояние распределенных параметров на этапе проектирования закона и достигнутых в процессе его реализации контрольных показателей.
Таким образом, для решения ряда существенных проблем в сфере законодательной политики, преодоления негативных тенденций чрезмерной экстенсификации законодательства, использования неэффективных практик решения правовых проблем с помощью закона, конструктивного решения дихотомии критериев «позитивности закона» и «подсудности» необходимо использовать междисциплинарные научные связи, обогащающие аналитические возможности правоведения при рассмотрении закона как теоретико-правового явления, а также конкретного политико-правового решения, когда закон рассматривается как пример системы (микросистемы) с определенной целевой функцией и распределенными проектными и контрольными параметрами.
Экспериментальное законодательство и законы с определенным сроком действия являются одним из способов эффективного осуществления законодательной политики, выполняя при этом гносеологическую и контрольную функции.
Ссылки:
-
1. Теория менеджмента / под ред. А.М. Лялина. СПб., 2009. 464 с.
-
2. Фуллер Л.Л. Мораль права / пер. с англ. Т. Даниловой ; под ред. А. Куряева. М., 2007. 306 с.
-
3. Зиммель Г. Избранное. Проблемы социологии. М., 2015. 132 с.
-
4. Фуллер Л.Л. Указ. соч. С. 54.
-
5. Лапаева В.В. Научное обеспечение правотворческих экспериментов // Проблемы совершенствования советского законодательства : труды. Вып. 41 / редкол.: М.И. Брагинский, С.Н. Братусь, М.Я. Булошников и др. ; гл. ред. И.Н. Кузнецов. М., 1988. С. 33–45 ; Правовой эксперимент и совершенствование законодательства / В.В. Глазырин, М.Л. Захаров, В.П. Кашепов, Н.И. Клейн и др. ; под ред. В.И. Никитского, И.С. Самощенко. М., 1988. 304 c. ; Maaß V. Experi-mentierklauseln für die Verwaltung und ihre verfassungsrechtlichen Grenzen: zugleich ein Beitrag zu § 7a BerlHG. Berlin, 2001. 222 S.
-
6. Horn H.-D. Experimentelle Gesetzgebung unter dem Grundgesetz. Berlin, 1989. 400 S. ; Maaß V. Op. cit.
-
7. Gesetzgebung im Rechtsstaat: Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtsleh-
rer in Trier vom 30. September – 3. Oktober 1981 / K. Eichenberger, R. Novak, M. Kloepfer und weitere. Berlin, 1982. 355 S.
-
8. Ibid. S. 93.
-
9. Гарапон А. Хранитель обещаний: суд и демократия / науч. ред. А.И. Ковлер ; пер. с фр. Г.В. Чуршуков ; авт. предисл.
-
10. Gesetzgebung im Rechtsstaat … S. 92.
-
11. Ibid.
П. Рикер. М., 2004. 328 с. ; Gesetzgebung: Rechtsetzung durch Parlamente und Verwaltungen sowie ihre gerichtliche Kontrolle / hrsg. von W. Kluth, G. Krings, S. Augsberg und weitere. Heidelberg ; Hamburg, 2014. 1050 S.
Список литературы Концепция экспериментального законодательства и ее значение для совершенствования правотворческой деятельности
- Теория менеджмента/под ред. А.М. Лялина. СПб., 2009. 464 с.
- Фуллер Л.Л. Мораль права/пер. с англ. Т. Даниловой; под ред. А. Куряева. М., 2007. 306 с.
- Зиммель Г. Избранное. Проблемы социологии. М., 2015. 132 с.
- Лапаева В.В. Научное обеспечение правотворческих экспериментов//Проблемы совершенствования советского законодательства: труды. Вып. 41/редкол.: М.И. Брагинский, С.Н. Братусь, М.Я. Булошников и др.; гл. ред. И.Н. Кузнецов. М., 1988. С. 33-45.
- Правовой эксперимент и совершенствование законодательства/В.В. Глазырин, М.Л. Захаров, В.П. Кашепов, Н.И. Клейн и др.; под ред. В.И. Никитского, И.С. Самощенко. М., 1988. 304 c.
- Maaß V. Experimentierklauseln für die Verwaltung und ihre verfassungsrechtlichen Grenzen: zugleich ein Beitrag zu § 7a BerlHG. Berlin, 2001. 222 S.
- Horn H.-D. Experimentelle Gesetzgebung unter dem Grundgesetz. Berlin, 1989. 400 S.
- Gesetzgebung im Rechtsstaat: Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Trier vom 30. September -3. Oktober 1981/K. Eichenberger, R. Novak, M. Kloepfer und weitere. Berlin, 1982. 355 S.
- Гарапон А. Хранитель обещаний: суд и демократия/науч. ред. А.И. Ковлер; пер. с фр. Г.В. Чуршуков; авт. предисл. П. Рикер. М., 2004. 328 с.
- Gesetzgebung: Rechtsetzung durch Parlamente und Verwaltungen sowie ihre gerichtliche Kontrolle/hrsg. von W. Kluth, G. Krings, S. Augsberg und weitere. Heidelberg; Hamburg, 2014. 1050 S.