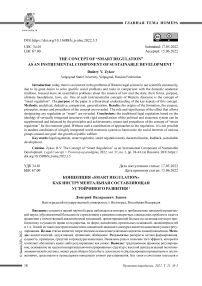Концепция "smart regulation" как инструментальная составляющая устойчивого развития
Автор: Зыков Дмитрий Валерьевич
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 3 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение: сегодня в нашей научной среде наблюдается интерес к проблематике западной юридической науки, обусловленный большим ее стремлением к решению конкретных социальных проблем и задач в сравнении с отечественной академической традицией, ориентированной больше на эссенциалистскую проблематику о сущности права и государства, их форм, назначения, предельных оснований, закономерностей и т. п. Одной из таких инструменталистских концепций западного дискурса является концепция умного регулирования. Целью статьи является теоретическое осмысление ключевых аспектов данной концепции. Методы: аналитический, дедуктивный, сравнение, обобщение. Результаты: раскрыты истоки формирования, сущность, принципы, средства и процедуры концепции. Выявлены роль и значение того эффекта, который и позволяет обозначать какое-либо регулирование как умное. Выводы: традиционное правовое регулирование, основанное на идеологии вертикально-интегрированных структур с жесткой централизацией политико-экономической системы, может ради общего блага быть дополнено и сбалансировано принципами и достижениями, средствами и процедурами концепции умного регулирования. Без такого сочетания подходов к регулированию не представляется возможным в современных условиях высокоинтегрированного мирохозяйственного уклада гармонизировать социальные интересы различных групп вокруг одной цели: роста общественного благосостояния.
Правовое регулирование, умное регулирование, средства умного регулирования, децентрализация, обратная связь, устойчивое развитие
Короткий адрес: https://sciup.org/149141606
IDR: 149141606 | УДК: 34.01 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2022.3.5
Текст научной статьи Концепция "smart regulation" как инструментальная составляющая устойчивого развития
DOI:
Одной из глобальных проблем мировой экономики является устойчивое развитие, то есть такое, при котором удовлетворение потребностей сегодняшнего дня не должно ставить под угрозу возможность будущих поколений удовлетворять свои потребности. В этой связи концепция устойчивого развития вступает в противоречие не только с традиционной экономикой, заряженной на максимизацию прибыли, но и с традиционным правовым регулированием, фактически обеспечивающим и защищающим прежде всего интересы крупного капитала. Чтобы произвести необходимые реформы традиционной экономики, нужно пересмотреть сам подход к правовому регулированию, поскольку право первично по отношению к экономике, если не в хронологическом и генетическом, то в любом случае в логическом смысле. Отсюда и наш интерес к концепции умного регулирования как дополняющей, корректирующей традиционное правовое регулирование.
Традиционное правовое регулирование строится на отношениях власти-подчинения, где обеспечительным механизмом в конечном итоге оказывается принуждение объекта регулирования воле «внешнего» привилегированного субъекта регулирования и управления (суверен, законодатель, правительство, официальная инстанция, государство в целом). Существование последнего как бы презюмирует следующую максиму. Не является приоритетом управления позволять отдельным индивидам и их группам руководствоваться собственными интересами, которые их волнуют, и непосредственные последствия которых они способны предвидеть. Но прежде всего следует заставлять их делать то, что видится правильным Субъекту, поскольку он обладает более полным пониманием значения и последствий их совокупных действий, ре-зультирующихся на макроуровне, а значит, их опека с его стороны необходима и оправданна. Такой подход регулирования основан на идеологии вертикально-интегрированных структур с жесткой централизацией политико-экономической системы, идущей из глубины времен.
Такая система построена на страхе перед наказанием и авторитете законодателя. Норма принята и должна исполняться вне зависимости от ее содержания.
В юридической литературе замечается по этому поводу: «Качество нормы, ее разумность, целесообразность, исполнимость в условиях односторонних иерархических связей в расчет не принимаются, потому что каналы, по которым информация о недостатках нормы могла бы дойти до правотворческого органа, отсутствуют. Подобное (“неумное”) регулирование опирается исключительно на авторитет законодателя и страх перед наказанием». Однако М.Л. Давыдова далее замечает: «Представление о законодателе, сидящем на высоком троне и транслирующем свою волю послушным подданным, безнадежно устарело» [1, с. 15–16].
Современный мирохозяйственный уклад сформировался на сочетании стратегического планирования и рыночной самоорганизации, в котором право должно играть роль интегратора всех социальных групп и предприятий. Интегральный мирохозяйственный уклад пытается гармонизировать социальные интересы различных групп вокруг одной цели – рост общественного благосостояния. Данная идеология отражает современные тенденции в сфере представлений о характере, способах и целях регулирования общественных отношений. В западной науке и философии выражением данной идеологии стали последователь- но развивающиеся и взаимодополняющие друг друга концепты – «Less Regulation», «Better Regulation», «Smart Regulation».
Содержание и принципы концепции «Smart Regulation»
Концепция «Smart Regulation» является дальнейшим развитием и совершенствованием концепций меньшего регулирования («Less Regulation») и качественного регулирования (Better Regulation). Они сменяли друг друга по принципу кумулятивности [8, с. 13].
Концепция «Smart Regulation», аккумулируя и далее развивая принципы данных идейных течений, для целей регуляторной политики сосредоточивает внимание на возможности и необходимости достижения большего результата наименее затратным способом посредством вовлечения в процесс создания нормы права самих заинтересованных лиц, ее адресатов.
Умное регулирование заключается в создании всесторонне продуманных нормативных правовых актов по конкретным социальным проблемам и задачам, которые позволяли бы достигнуть целей повышения общего уровня жизни и благосостояния, увеличения доступности и прозрачности процедур и информационных баз, защиты окружающей среды, повышения конкурентоспособности, экономии и эффективности в управлении ресурсами, открытости рынка.
К средствам и процедурам умного регулирования исследователи относят оценку (анализ) фактического и регулирующего воздействия, проводимого законодательными, исполнительными органами и общественными организациями [2], консультации с заинтересованными лицами, технико-юридические решения (правовой эксперимент, регулятивные песочницы [3; 12], транспарентность нормативноправовой базы и иных баз данных [6], электронные платформы для публичных консультаций), уменьшение административных барьеров (регуляторная гильотина), упрощение существующего законодательства посредством консолидации и кодификации, программные акты-регуляторы стратегического планирования, цифровизацию и автоматизацию взаимодействий участников, «регулятивное подтал- кивание» [5], мягкое право [10]. Данный перечень не является исчерпывающим.
Анализ научной литературы показывает, что эффект умного регулирования достигается на основе следующих принципов:
-
1. Отказ от централизованного императивного регулирования в пользу саморегулирования и совместного регулирования общества и государства. Иными словами, стремление к горизонтальному гетерархич-ному регулированию взамен вертикальному иерархичному.
-
2. Выявление и вовлечение заинтересованных лиц из числа наиболее влиятельных в процесс принятия решения.
-
3. Достижение высокой результативности регулирования наименее затратным способом. Поскольку либо адресаты начинают сами стремиться к тем же целям, что и законодатель, например при «подталкивании», либо инструменты такого регулирования сами по себе обеспечивают существенное снижение издержек, например при цифровизации процессов.
Сущностные характеристики концепции «Smart Regulation»
Ключевой смысл для понимания умное перед нами регулирование или неумное (или «не достаточно умное»), на который также обращают внимание в юридической литературе, связан еще как минимум с тремя пунктами.
Первое. Все вышеперечисленные средства и процедуры пронизывает общая цель – налаживание качества обратных связей между субъектом и объектом регулирования для получения информации о состоянии и потребностях объекта регулирования [7, с. 5].
Умное регулирование исходит из того, что результативность любой деятельности прямо пропорциональна уровню информатизации объекта управления и обратно пропорциональна уровню владения информацией, знаниями, информационными технологиями субъектов управления [4, с. 202].
Как известно, социальные науки не сформулировали своего понятия обратной связи. Этот термин пришел к нам из технических наук. Как бы то ни было, но это понятие мо- жет быть с пользой экстраполировано в социальную теорию как критерий, способствующий проверке системы на устойчивость. По аналогии с действием кибернетического механизма представляется возможным для наших целей следующее утверждение.
Обратная связь есть процесс взаимодействия (ответов, сигналов, реакций) субъекта (законодатель) и объекта регулирования (сфера, сегмент общественных отношений), приводящий к тому, что результат в виде конечного состояния объекта влияет на процедуры и средства, параметры и идеи, от которых зависит дальнейшая его динамика в сторону упорядоченности или беспорядка.
Обратная связь между субъектом и объектом может быть отрицательной и положительной. Отрицательной является обратная связь, когда правовое воздействие корректируется, преломляется объектом, встречая противодействие изменениям в самих объективных условиях общественной жизни или в убеждениях людей, предполагая дальнейшее совершенствование и адаптацию воздействия к условиям и ментальности объекта с целью его развития, а не подавления. Такое состояние системы говорит о ее устойчивости, существовании механизмов преодоления противоречий.
По принципу отрицательной обратной связи действует умное регулирование.
Положительной обратной связью будет состояние, когда правовое воздействие, несмотря на сопротивление объекта изменениям, не обусловленным его свойствами, принудительно заставляет его подчиниться под страхом наказания. Такое состояние системы указывает на ее неустойчивость, обусловленную внутренними неутихающими противоречиями.
По принципу положительной обратной связи действует традиционное правовое регулирование.
Второй пункт заключается не в том, какие по своей природе средства и процедуры используются для достижения целей наименее обременительным способом, будь то экономические, психологические, правовые, организационные, политические, IT-решения, а в правильном сбалансированном гибком динамичном сочетании уже известных инструментов и средств.
-
Н. Ганнингем и Д. Синклер предлагают следующую классификацию регулятивных инструментов: командно-контрольные (подчинение субъектов определенным стандартам технологического процесса, иначе не будет ожидаемого результата); экономические (премии или штрафы за результат, недискриминационные, антимонопольные правила рыночной игры); волюнтаризм (свободное усмотрение участников отношений в выборе поведения или решения); информационные стратегии (образование и обучение, всевозможные публичные базы данных, реестры, кадастры, из которых официально можно получить информацию, публичная отчетность компаний и государственных органов, электронные услуги).
Данные инструменты можно использовать каждый в отдельности, причем правильно или неправильно, эффективно или неэффективно, а можно использовать в комбинации с другими, тоже успешно и результативно или нет. Например, авторами утверждается, что контрпродуктивно использовать одновременно командно-контрольные и экономические инструменты для достижения одних и тех же целей, что делается повсеместно. И, напротив, продуктивно использовать «волюнтаризм + командно-контрольное регулирование», что встречается редко. В книге приводятся соответствующие примеры [11, с. 133–148].
И третий пункт состоит в том, что умное регулирование не может предполагать непредвиденных побочных эффектов в виде неблагоприятных последствий. Как отмечает Н.Н. Тарасов: «…любое управленческое действие сопровождается следствиями, как минимум, трех типов: входившими в целевую рамку действия; не входившими, но просчитанными и скомпенсированными; не входившими, не просчитанными и, следовательно, не скомпенсированными. Следствия второго типа способны минимизировать полезный эффект управленческого акта, а третьего типа – превратить его в отрицательный» [9, с. 44].
Вряд ли мы можем назвать то регулирование умным, которое допустило не просчитанные и не скомпенсированные последствия. Хотя данный пункт кажется в то же время излишним. Поскольку умное регулирование (как и традиционное регулирование) также связано с рисками недостижения ис- комого результата по причине ошибок, эксцессов или форс-мажорных обстоятельств и скорее подчеркивает общую ответственность за результат всех учреждений и акторов, принимающих решения и их реализующих, поскольку между ними предполагались диалог и сотрудничество. Тем не менее сам смысл умного регулирования предполагает успех в достижении результатов, а это значит, что в подавляющем большинстве случаев побочные непредвиденные последствия должны исключаться.
Выводы
Едва ли завтра исчезнет социальная иерархия, поскольку везде и всегда, где появляется общество, оно организуется на управляющих и управляемых, и первые всегда имеют больше возможностей и благ, чем последние. Это законы социальности, их нельзя нарушить. Однако от них можно уклониться или смягчить их действие с помощью ограничителя, которым является умное правовое регулирование, подобно тому, как мы, используя законы аэродинамики, уклоняемся от закона притяжения. Понятно, что традиционное правовое регулирование, построенное на иерархии и принуждении, останется существовать, и в этом есть своя необходимость, поскольку некоторые сферы регулирования (уголовное право, административное право и т. п.) немыслимы в другом формате. Но хочется надеяться, что экономическая, социально-культурная сферы будут все больше освобождаться от прямого командного управления и регулироваться децентрализовано на основе обратной связи. Ведь представляется верным, что именно готовность государства слышать обратную связь от общества и доверить ему в дозволенных пределах развиваться спонтанно, а не по указке, может сохранять свободу выбора и поддерживать устойчивость общественного мнения в необходимости и ценности самой власти.
Список литературы Концепция "smart regulation" как инструментальная составляющая устойчивого развития
- Давыдова, М. Л. «Умное регулирование» как основа совершенствования современного правотворчества / М. Л. Давыдова // Журнал российского права. -2020. - № 11. - С. 14-29.
- Давыдова, М. Л. Оценка регулирующего воздействия как разновидность правотворческих экспертиз и инструмент умного регулирования / М. Л. Давыдова // Юридическая техника. - 2022. - № 16. -С. 103-108.
- Давыдова, М. Л. Регулятивные песочницы и особенности их имплементации в российское законодательство / М. Л. Давыдова // Хозяйство и право. - 2021. - № 7 (534). - С. 60-70.
- Давыдова, М. Л. Пресс-релиз международной интернет-конференции «Модернизация технологий юридической деятельности в правовых системах современного мира» (г. Волгоград, 1-30 июня 2013 г) / М. Л. Давыдова, Д. В. Зыков // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5, Юриспруденция. - 2013. - № 2 (19). - С. 202-210.
- Козлова, М. Ю. Средства «умного регулирования», влияющие на выбор потребителями полезных для здоровья продуктов / М. Ю. Козлова // Legal Concept = Правовая парадигма. - 2021. -Т. 20, № 3. - С. 24-29. - DOI: https://doi.org/10.15688/ lc.jvolsu.2021.3.4
- Козлова, М. Ю. Раскрытие информации как средство «умного» регулирования (на примере договора займа) / М. Ю. Козлова // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2022. -№2(245). - С. 66-75.
- Купряшин, Г. Л. Концепция «умного регулирования»: зарубежный опыт и возможность его применения в государственном управлении России / Г. Л. Купряшин, Н. Н. Сарычева // Вестник МГУ. Серия 21, Управление (государство и общество). - 2013. - № 2. - С. 5-10.
- Слеженков, В. В. Теория «умного регулирования»: идейно-исторический контекст формирования / В. В. Слеженков // Legal Concept = Правовая парадигма. - 2021. - Т. 20, № 3. - С. 12-17. - DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2021.3.2
- Тарасов, Н. Н. О праве в современном обществе (размышления на тему) / Н. Н. Тарасов // Российский юридический журнал. - 2018. -№6(123). - С. 39-46.
- Усенков, И. А. Национальное мягкое право как правовой феномен и инструмент повышения стабильности законодательства / И. А. Усенков // Право. Журнал Высшей школы экономики. -2022. - Т. 15, № 1. - С. 28-58.
- Gunningham, N. Smart Regulation / N. Gunningham, D. Sinclair // Regulatory Theory: Foundations and Applications / ed. by P. Drahos. -Canberra : The Australian National University, 2017. -P. 133-148. - DOI: https://doi.org/10.22459/RT.02. 2017.08
- Makarov, V. O. On the concept of regulatory sandboxes / V. O. Makarov, M. L. Davydova // Lecture Notes in Networks and Systems. - 2021. - Vol. 155. -P. 1014-1020.