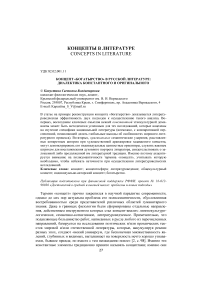Концепт богатырство в русской литературе: диалектика константного и оригинального
Автор: Капустина Светлана Владимировна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Концепты в литературе
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье на примере реконструкции концепта «богатырство» доказывается литературоведческая эффективность двух подходов к осуществлению такого анализа. Во-первых, воссоздание ключевых смыслов некоей константной этнокультурной доминанты может быть методически успешным для тех исследований, которые нацелены на изучение специфики национальной литературы (возможно, с компаративной перспективой, позволяющей делать глобальные выводы об особенностях мирового литературного процесса). Во-вторых, оригинальные семантические ударения, расставленные конкретным автором при художественной аранжировке задаваемого концепта, могут демонстрировать его индивидуальные ценностные ориентиры, служить важным штрихом для восстановления духовного портрета литератора, свидетельствовать о заложенной либо продолженной им литературной традиции. Именно поэтому акцентируется внимание на полисемантичности термина «концепт», учитывать которую необходимо, чтобы избежать неточности при осуществлении литературоведческих исследований.
Концепт, концептосфера, литературоведение, общекультурный концепт, индивидуально-авторский концепт, богатырство, 'богатырство'
Короткий адрес: https://sciup.org/148317730
IDR: 148317730 | УДК: 82.02.001.11
Текст научной статьи Концепт богатырство в русской литературе: диалектика константного и оригинального
Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ: проект № 18-01290036 «Достоевский в средней и высшей школе: проблемы и новые подходы»
Термин «концепт» прочно закрепился в научной парадигме современности, однако до сих пор актуальна проблема его полисемантичности, обусловленная востребованностью среди представителей различных областей гуманитарного знания. Даже в границах филологии были сформированы отдельные направления, действенным инструментом которых стал концепт-анализ: лингвокультурологическое, семантико-когнитивное, литературоведческое. Примечательно, что подавляющее большинство работ, написанных в русле любого из перечисленных направлений, базируется на исследовании поэтических и/или прозаических текстов мировой и/или отечественной литературы, которые, аккумулируя реалии разных эпох, создают «некий универсум, где бесконечная множественность явлений, глубинных и видимых, выталкивает на поверхность нечто хорошо узнаваемое, бывшее прежде, но вместе с тем неожиданно новое» [2, с. 98]. Именно эти константные элементы традиционно принято называть концептами; именно они 27
систематизируются в словарях-концептуариях, фундаментальных лексикографических трудах, посвященных реконструкции культурных кодов.
Вне всякого сомнения, таковые культурно маркированные «концентраты» -ценный материал для литературоведов, выявляющих особенности как национального, так и мирового литературного процесса. Однако не менее значимым в литературоведческом ракурсе считаем и то, что художественные тексты, ретранслируя индивидуально-авторские концепты, дают возможность составить представление о мировоззренческих и поэтологических установках, формирующих идиостиль и творческий метод их создателя. То есть исследование одного и того же концепта в разных системах координат (константной и оригинальной) может быть обусловлено отличными друг от друга литературоведческими целями. Проиллюстрируем выдвинутый тезис посредством анализа концепта «богатырство», реализуемого как в границах русской литературы в целом, так и в творчестве конкретных писателей (поэтов).
Вполне закономерно, что концепт «богатырство» ментально маркирован: генетически восходя к былинному эпосу, он ретранслируется и в произведениях русских классиков. Безусловно, в каждой национальной литературе существует патриотический образ воина, бесстрашного защитника родной земли и соотечественников, готового жертвовать собственной жизнью во славу добра и справедливости. Однако невозможно отнести к когорте богатырей, например, героев англосаксонского либо кельтского эпосов, хотя последние также демонстрируют небывалую физическую мощь, готовность бороться с врагами, совершать подвиги. В чем же принципиальное отличие феномена «богатырство»? Какие ядерные семантические составляющие дают нам основание не отождествлять его, к примеру, с феноменом «рыцарство»? На каком основании исследуемый концепт можно считать неотъемлемой частью русского народного мыслетворчества? Поиску ответов на поставленные вопросы способствует анализ глобально заданного в русской литературе концепта «богатырство».
Былинный эпос ретранслирует исследуемый концепт через такие семантические единицы, как сила , заступничество , служение . Каждый из перечисленных компонентов также обусловлен ментально и реализуется в зависимости от времени и условий осмысления. Сила «старших» богатырей явлена более архаично, несколько гиперболизированно. Например, сила Святогора «по жилочкамъ жив-чикомъ так и переливаетса», однако «…грузно от силушки, какъ отъ тяжелаго беремени» [12, с. 453]. Даже Мать-Земля не может удержать на себе монументального Святогора: его небывалая физическая мощь служит барьером для исполнения истинно богатырской миссии на поле брани. Гиперболизация богатырской плоти, в данном случае, есть не что иное, как указание на инертность, бездействие, равнодушие. «Дремлющая» физическая сила Святогора отнюдь не продуктивна, поскольку лишена тех незыблемых духовных импульсов, которые ярко воплощены в образах «младших» богатырей.
Так, оппозиция «сила-слабость» оригинально проявляется в былинах об Илье Муромце. Тридцать лет и три года герой был слаб физически, однако дар от калик перехожих сделал его сильным как по плоти, так и по духу. Нетленные мощи Преп. Илии Муромца и ныне даруют благодать православным, совершающим паломничество в Антониевы пещеры Киево-Печерской лавры.
Жизнеописание святорусского воина «младшей» когорты выявляет и такие ядерные черты концепта «богатырство», как заступничество и служение . Духовная крепость и физическая стойкость Ильи Муромца позволяют ему отражать нападки врагов на родную Землю, благословлённым сыном которой он и является. В православной транскрипции образ родной Земли родствен Богородице, заступничество которой помогает святорусскому воину в борьбе с неприятелем. Вполне очевидно, что свою миссию богатырь воспринимает как служение Богу и Отечеству. Воинские подвиги чаще совершаются им не в одиночку, а при поддержке богатырского братства, скрепленного общими духовными устремлениями и силой православного креста (мотив крестного братания достаточно распространен в былинах о «младших» богатырях). Примечательно, что богатырское братство — не аналог инокультурных воинских объединений наподобие рыцарского ордена, поскольку феномены «богатырство» и «рыцарство» развиваются по разным онтологическим траекториям. Принципиальные отличия названных явлений отмечаются и в работах авторитетных исследователей. В частности, В. Я. Пропп отмечает бескорыстность богатырского служения, которое в отличие от рыцарства «…не имеет ничего общего с продвижением по службе или получением титулов» [13, с. 271]. И. С. Кокарев, систематизируя наработки предшественников, приходит к выводу, что русский богатырь в противовес героям западного эпоса:
-
а) имеет неблагородное происхождение;
-
б) руководствуется общенародными устремлениями по сохранению гармонического состояния Руси;
-
в) не нуждается в богатстве;
-
г) не поддается греху мщения;
-
д) поддерживает идею крестного братства, а не братства по оружию;
-
е) выше интересов правителя ставит интересы Православной веры, русской Земли, Киева (как эпического центра мира), народа [9, с. 52]
Безусловно, приведенные примеры — лишь элемент общей картины, ретранслирующей концепт «богатырство» в русской литературе, однако и на основе данных иллюстраций выделяются те его ядерные черты, которые позволяют утверждать о некой константности, т.е. принимать феномен «богатырство» за локальный тип русской героики, а одноименный концепт — за «некую общенациональную доминанту в русском коллективном и индивидуальном сознании» [6, с. 15].
Вполне очевидно, что концепт «богатырство» получил оригинальные экспликации в творчестве известных писателей и поэтов. Уникальные художественные открытия А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова и других позволяют, во-первых, дополнить общую — этнокультурную — модель заданного концепта, а во-вторых, восстановить те мировоззренчески важные черты, которые были приоритетны для каждого из перечисленных литераторов. Следовательно, концепт «богатырство» может выступать как в качестве элемента национальной генеалогии мысли, так и в виде базисной категории мировоззрения писателя, запечатленной в художественной ткани его произведений.
Обратимся к индивидуально-авторскому концепту «богатырство» Н. В. Гоголя с целью глубинного понимания аксиологических ориентиров классика. Если подвергнуть анализу соответствующие контексты из «Выбранных мест из переписки с друзьями», то выяснится: основой богатырской силы писатель считал духовную стойкость как ратоборцев в железных латах, так и людей «каждого звания и места». Создатель «Переписки» неоднократно подчеркивал: «богатырски задремал нынешний век» и крепкий сон его отступит лишь тогда, когда любой из соотечественников осознает, что «в России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем».
Отождествление богатырского поприща со служением Богу сформировалось у Н. В. Гоголя благодаря его живому интересу к творениям Святых Отцов и Учителей Церкви. Посредством анализа помет и записей, сделанных писателем при чтении Библии, по-новому аргументируется наблюдение гоголеведов (С. А. Гончаров, В. А. Воропаев, И. А. Виноградов и др.) об особенно чутком восприятии им Слова апостола Павла: из Второго Послания к Коринфянам автор «Выбранных мест…» заимствует одну из генеральных идей, определивших значение концепта «богатырство» — «сила в немощи». Если физические достоинства сограждан, не просветленных евангельской мыслью, видятся Н. В. Гоголю возможным источником хаоса и разрушений, то внешняя слабость поборников христианства, по его мнению, не препятствует их самореализации в качестве богатырей.
На протяжении всего творческого пути писатель настойчиво ищет художественно полнокровный эквивалент богатырства. Поначалу он обращается к такому колоссальному явлению жизни, как казачество. Однако трезвый взгляд на устои и обычаи казачьей вольницы не позволяют однозначно утвердить непреложность духовного подвига этих защитников Божией Правды. В первом томе поэмы «Мертвые души» феномен богатырства раскрывается в обратной «проекции»: страна, некогда рождавшая исполинов, подобных Пересвету и Ослябе (письмо к гр. А. П. Толстому, 1845 г.), ныне полнится горе-/псевдобогатырями типа Собакевича и Мокия Кифовича. В повести «Шинель» автор рисует образ Башмачкина, который вначале обладает обнадеживающим духовным потенциалом (самоотвержением в служении делу, смирением и бесстрастием души), не получившим, однако, должного развития. «Ужасная», по слову Ф. М. Достоевского, трагедия Акакия Акакиевича заключается в движении «от святости к падению» (Чинция де Лотто), в расколе прежде единой личности на два принципиально разных «Я» — у БОГ ое, но, согласно Новому Завету, достойное Царствия Небесного, и ЗЛО счастное, т. е. духовно отравленное и обреченное на вечное блуждание в пределах земного круга. На исходе своего поприща Н. В. Гоголь находит героя, соответствующего его представлению о богатырстве, в стенах монастыря (иконописец Григорий из повести «Портрет»), где складывается соборное единство братьев во Христе [4; 5; 6; 7; 8].
Таким образом, характер семантических ударений внутри художественно эксплицируемого Н. В. Гоголем концепта «богатырство» свидетельствует о христо-устремленности писателя и позволяет опровергнуть распространенные суждения о нем как о мистике, «оружием смеха борющемся с чертом» [10, с. 180], авторе, «религиозное сознание которого апокалиптично» [11, с. 18], приверженце масон- ских идей [1, с. 35], адепте «смеси протестантизма и католицизма, возможно, с преобладанием протестантских ценностей» [3, с. 23].
Как видим, изучение одного и того же концепта в разных системах координат — константной (этнокультурной) и оригинальной (индивидуальноавторской) — способствует достижению отличных друг от друга, но одинаково значимых для литературоведения целей.
Список литературы Концепт богатырство в русской литературе: диалектика константного и оригинального
- Вайскопф М. Гоголь как масонский писатель // Гоголевский сборник. СПб.: Образование, 1993. С. 123–136.
- Володина Н. В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфере литературоведения. Москва: Флинта, Наука, 2011. 256 с.
- Давыдов А. П. Душа Гоголя. Опыт социокультурного анализа. М.: Новый хронограф; АИРО-XXI, 2008. 264 с.
- Капустина С. В., Зябрева Г. А. Художественный концепт «богатырство» в творчестве Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского // Учен. зап. Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Т. 24 (63), 2011. С. 114–124.
- Капустина С. В. Феномен богатырства в трактовке Ф. М. Достоевского и традиция Н. В. Гоголя // Проблемы исторической поэтики. Вып. 12. Петрозаводск: ПетрГУ, 2014. С. 264–270.
- Капустина С. В. Концепты «беспорядок» и «богатырство» в творчестве Ф. М. Достоевского и традиция Н. В. Гоголя: дис. … канд. филол. наук. Симферополь, 2014. 241 с.
- Капустина С. В., Зябрева Г. А. Концепт в литературоведческом дискурсе (на материале творчества Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского) // Концепт: грани понятия в современной науке: коллект. монография. Ногинск: АНАЛИТИКА РОДИС, 2015. С. 4–45.
- Капустина С. В. Образ Башмачкина в духовных координатах Н. В. Гоголя (Приглашение к дискуссии) // Вопросы русской литературы. Симферополь: Крымский архив, 2013. Вып. 26 (83). С. 37–46.
- Кокарев И. С. Идея богатырства в русской культуре: дис. … канд. культурол. наук. Иваново, 2017. 155 с.
- Мережковский Д. С. Гоголь и черт: Поэзия; Гоголь и черт: исследование; итальянские новеллы / сост. и вступ. ст. В. Макарова. М.: Книжный Клуб Книговек, 2010. 384 с.
- Мочульский К. В. Духовный путь Гоголя. Paris: YMCA PRESS, 1934. 147 с.
- Песни, собранные П. Н. Рыбниковым: в 3 т. Изд. 2-е / под ред. А. Е. Грузинского. М.: Сотрудник школ, 1910. Т. 1. 734 с.
- Пропп В. Я. Русский героический эпос. М.: Лабиринт, 1999. 640 с.