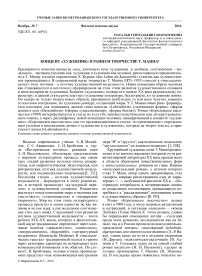Концепт «художник» в раннем творчестве Т. Манна
Автор: Шарапенкова Наталья Геннадьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (144), 2014 года.
Бесплатный доступ
Предпринята попытка провести одну, ключевую тему художника в двойном, соотносимом - модальном - звучании (человек как художник и художник как человек), реализованную применительно к Т Манну в емком определении Х. Курцке «das Leben als Kunstwerk» («жизнь как художественное произведение»). В современной науке творчество Т. Манна (1875-1955) относят к «неклассическому» типу поэтики - к поэтике художественной модальности. Новая концепция образа человека как становящегося и неготового сформировала на этом этапе развития художественного сознания и иное восприятие художника. Концепт «художник» подвергся в начале ХХ века радикальному пересмотру: в данной статье речь идет не о художнике-литераторе, беллетристе, а о художнике жизни. Он теперь не только творец новых образов, призванных возбуждать то или иное чувство, навевать то или иное настроение, но художник-демиург, создающий миры. У Т. Манна очень рано формируется ключевое для понимания данной темы понятие «Lebensform» («жизненная форма», «форма жизни») или «Daseinsform» («форма существования», «форма бытия»). Роман «Королевское высочество» (1909) интерпретируется в статье не в сугубо лингвостилистическом или литературоведческом планах, а через расшифровку новой концепции человека, зашифрованной в концепте «художник». «Королевское высочество», как это проанализировано в статье, это произведение с определенным уклоном в иносказание, роман о художестве и художниках, которые не творят тексты, а практикуют жизнь («Lebenskunst»).
Роман о художнике, концепт, поэтика художественной модальности
Короткий адрес: https://sciup.org/14750742
IDR: 14750742 | УДК: 821.161.1(092)
Текст научной статьи Концепт «художник» в раннем творчестве Т. Манна
Видные современные ученые А. В. Михайлов, С. С. Аверинцев, С. Н. Бройтман в труде «Историческая поэтика», развивая идеи А. Н. Веселовского, обосновали представление о мировом литературном процессе как смене трех стадий развития поэтики (эпоха синкретизма, или мифопоэтическая; эйдетическая, или риторическая; поэтика художественной модальности, или индивидуально-творческая) [1; 335]. Последняя стадия – поэтика художественной модальности – формируется в эпоху романтизма, в которой происходит «культурный перелом» в художественном сознании. Романтизм реализует новое понимание мира и человека как «неготового», «становящегося» и «непрерывно творимого». Мир на этом этапе литературного процесса предстал в своем единстве не как явление и не как идея, а как модальное соотношение этих двух начал. Следующий этап развития поэтики художественной модальности – эпоха рубежа XIX–ХХ веков, которую в филологической науке традиционно определяют через ключевые понятия «декадентство», «символизм», «импрессионизм», «Jugendstil», «литературный модернизм» (literarische Moderne). В «неклассических текстах» традиционный подход к героям через категории характера не исчерпывает всех возможностей понимания этих образов. По словам С. Н. Бройтмана, человек в таких произведениях предстает «как изменяющаяся внутренняя мера “Я” и “другого”, как подвижное, модальное, “двухполюсное” их взаимоотношение» [1; 258].
Крупнейший художник слова Т. Манн предвосхитил и во многом определил неторные пути развития мировой литературы ХХ века, прежде всего в области обновления повествовательных форм с интеллектуальным романом во главе. Именно «интеллектуальный роман», у истоков которого стоял Т. Манн, автор самого наименования, стал «жанром, впервые реализовавшим одну из характерных <…> особенностей реализма ХХ в. – обостренную потребность в интерпретации жизни, ее осмыслении, истолковании, превышавшую потребность в “рассказывании”, воплощении жизни в художественных образах» [ 8; 195 ] .
Роман «Королевское высочество» вышел в свет в 1909 году, в эпоху мировых катаклизмов и потрясений, в ситуации «канунов» – «конца Любека» (Томас Манн). К этому роману, словно бы оправдывая самооценку автора – «золушка среди моих романов», исследователи как на Западе, так и в России проявляли снисходительноприкладной интерес: «школярский (schulmäs-siger) роман, а не значительное явление» (Х.-Р. Важе), «лишь веха» на пути к поздним творениям (И. Дирзен), «идиллически-сказочный» (В. Адмони и Т. Сильман), «едва ли не самый слабый роман писателя» (Н. Н. Вильмонт), «далеко не лучшее произведение Т. Манна» (И. Эбаноид-зе). В последнее время появились попытки но- вого прочтения символического плана романа. Так, в недавнем исследовании Х. Курцке «Томас Манн» (2000) глава о «Королевском высочестве» открывает важнейший раздел монографии «Ge-schichten und Theorien über “Kunst” und “Kün-stler”» [10].
В творчестве Т. Манна «художник» используется именно как концепт, а также «на языке» поэтики художественной модальности – неузуально, модально: герой раннего Т. Манна как бы художник, «художник» (в кавычках). Используя как термин понятие «художник», мы следуем и формально словоупотреблению автора. Т. Манн (в полемике с братом Генрихом в письме от 18.02.1905) пишет: «Признаться, я думаю, ты ударился в другую крайность, перестав мало-помалу быть чем-либо, кроме как художником, – а ведь писатель должен быть, да поможет мне бог, больше, чем просто художником» [ 7; 79-80 ] .
В русской германистике продуктивный подход к особенностям постановки этой темы намечался в суждении А. В. Русаковой, оставшемся, к сожалению, неразвернутым: «Жизнь была тогда парадигмой искусства, знаком для его выражения, а не искусство – парадигмой жизни» [ 9; 98 ] . Применительно к концепту художник это фокусируется в понимании миссии творца в модально-двойственном соотношении: человек как художник и художник как человек. Именно по поводу «Королевского высочества» Т. Манн сформулирует одно из центральных положений своей эстетики: «Кто такой писатель? Тот, чья жизнь – символ. Я свято верю в то, что мне достаточно рассказать о себе, чтобы заговорила эпоха, заговорило человечество, и без этой веры я отказался бы от всякого творчества» [ 3; 35-36 ] .
Т. Манн безапелляционно и резко отвел в своем манифесте «Бильзе и я» (1906) досужие разговоры о сходстве «Будденброков» с бытописательским романом офицера-дилетанта «Маленький гарнизон» [ 9 ] . Появление «Королевского высочества» (1909) также не обошлось без публичного выяснения отношений автора с власть имущими в Германской империи: «Я не питал ни малейшего желания дать объективную критику современной придворной среды <…> я и на этот раз говорил о своей собственной жизни…» [ 9; 34, 36 ] .
«Человек» и «художник» – эти два полюса «неслиянно и нераздельно» присутствуют в творческом поведении личности в культуре начала века. Иначе говоря, в литературе того времени на первом месте не стиль слова, а стиль жизни – форма жизни («Lebensform» у Т. Манна). Как для ученика Ницше, для немецкого писателя здесь встает вопрос о средствах эстетизации этой жизни, чтобы сделать ее искусством. У Т. Манна в аспекте человек/художник, помимо стиля, резко выдвинута категория формы. Кате- гория «Lebensformen» у Т. Манна имеет прямое отношение к практике символического, то есть эстетического пересоздания потока жизни в некое подобие произведения. Подлинная «форма» выковывается в противодействии обстоятельствам. Тонио Крёгер, герой одноименной новеллы, понимал, что «хорошее произведение создается лишь в борьбе с чрезвычайными трудностями, что тот, кто живет, не работает, и что надо стать по ту сторону жизни, чтобы творить великое искусство» [6; 214]. Художественное культивирование «формы» в построении собственной биографии и обусловит цельность творческого пути Т. Манна. По его собственным словам – «само-осознание судьбы, развертывающееся в едином творческом пространстве» [4; 182].
Т. Манн противопоставляет «живую форму» «формальности», то есть пустой форме. В романе «Королевское высочество» юный отпрыск, наследник престола попадает в положение, подобное андерсеновскому Каю: «…в Серебряном зале со множеством свечей было холодно, как в зале снежной королевы, где замерзали сердца детей» [ 5; 56 ] . Именно здесь он переживает «момент истины» – предчувствие своего предназначения как «высокого призвания» (Hoheit), обернувшегося для него холодом формальных предписаний: «…ему приоткрылся внутренний смысл явлений <…> он смутно понял, зачем это пустое, обветшалое великолепие покоев, бесполезных и безрадостных в своей гордыне, это самоотверженное умение владеть собой, высокое и напряженное служение, которое, казалось, олицетворяла строгая симметрия белых свечей…» [ 5; 61 ] . Удел героя «Королевского высочества» -наполнить эти обветшавшие формы теплокровной жизнью. Весь путь принца Клауса-Генриха в романе и представляет собою разворачивание и наполнение его «высокого призвания» (величие, призвание, изысканность, меланхолия, жизненная форма).
Удел творчества, как это предстает в романе и новелле «Тонио Крёгер», – не для всех. Т. Манн наделяет этим даром личности нестандартного поведения, отмеченные, как клеймом, талантом, – «проклятые».
Тема писательства у Т. Манна устойчиво связана с проблемой творческой личности, данной в синонимическом ряду: художник, писатель, литератор, наконец, родовое – поэт («Dichter»), а в откровенно-оценочном плане: пророк, шарлатан, святой, критик.
В основе задуманного в 1908 году эссе «Дух и искусство», восходящего к «Тонио Крёгеру» и пьесе «Фьоренца», лежит антитеза («чистый») художник/литератор (или «поэзия»/«проза» («Dichtung»/«Literatur»). Она связана со спором братьев Манн, примерявших в начале ХХ века разные творческие маски. «Литератор» понят ими как носитель духа, отторженный от жизни. «Художник» же – как непосредственный, но и сомнительный рупор жизни. «Честолюбие, наивность, бессовестность» – таков набор качеств художника, по Т. Манну [7; 64]. Автор «Тонио Крёгера» не прочь и сам предстать в такой ипостаси: «…я слишком патологичен и инфантилен, слишком “художник”» [6; 69]. Т. Манн отдает брату Генриху Манну роль «святого литератора»: «…ты, в сущности, слишком добр, слишком благороден, чист, стыдлив, щепетилен и порядочен» [6; 69].
Л. И. Мальчуков отмечает, что уже в «Будденброках» «до удивления много места отведено искусству - как теме и как проблеме» [ 2; 273 ] . Более того, приведем наблюдения ученого о том, что повествование в этой эпической саге о купцах в финале приводит к неожиданной («детской») антитезе: гений-музыкант (Künstler) Ган-но и писатель-сказочник (Schriftsteller) Кай.
Роман о принце «Королевское высочество» оборачивается как бы «романом о художнике». Х. Курцке отмечает: «…речь идет о романе, посвященном художнику (Künstlerroman). Принц – аллегорическое воплощение проблематики художника <…> Есть много общего, что связывает властителя и художника: их чувство исключительности, их одиночество, их отторженность от людских страстей, их ставка лишь на формальные моменты существования, их обоюдное влечение к лицедейству» [ 11; 83 ] . В методологическом отношении нам близка точка зрения У. Картхауса, который допускает терпимую множественность подходов в анализе содержания «Королевского высочества» (от социологического до сказочномифологического) при доминировании подлинной темы романа – темы искусства.
Истоки темы «человек как художник», ее «литературные корни» [12; 559] П. Мендельсон обнаружил в «Тонио Крёгере». В дискуссии с Ли- заветой Ивановной герой утверждает: «Es ist aus mit dem Künstler, sobald er Mensch wird und zu empfinden beginnt» («Там, где начинается художник, кончается живой человек»). Т. Манн со всей решимостью поднимает в новелле вопрос о несовместимости мира художника и мира человека: «Нет на свете более мучительной проблемы, чем проблема художественного творчества и его воздействия на человека» [6; 221].
У Т. Манна выявление антиномий, главного принципа его мировидения, нацелено не на устройство «противоречий», а на поиск «путей их пересечения». Этот принцип играет роль своеобразного инструмента познания мира и человека. Искания немецкого писателя ведут к живой личности, моделью которой предстал у него «художник» – своего рода «фокус» преодоления противоречий (жизнь – дух, здоровое – больное, бюргер – художник).
Творчество Т. Манна представляет собой тот «особый тип вопрошания человека о своей сущности», который современная наука относит к «философской антропологии». Далеко не случайно, что в поисках ответа на эти «вопрошания» Т. Манн с его практикой парностей пытался разгадать «тайну» человека – драму его двуприродности – по формуле «соединение без смешения» (Spannung, но не Spaltung). Решение проблемы «художник» в ее двойственном преломлении у Т. Манна заключено, по сути, в искусстве, взятом в аспекте его верховных целей – духовного воздействия (Wirkung). Национальным вариантом ответа на этот вопрос, затрагивающий миссию художника в обществе, будет представительство (Repraesentation) как «совершенный образ множества» у Т. Манна. В свете вышесказанного представляется обоснованным вывод о том, что «Королевское высочество» Т. Манна – важная веха на пути выработки собственного типа творческого поведения.
* Работа выполнена в рамках реализации комплекса мероприятий подпроекта «Scandica: конвергенции в культуре стран Северной Европы» Программы стратегического развития Петрозаводского государственного университета на 2012– 2016 годы.
Список литературы Концепт «художник» в раннем творчестве Т. Манна
- Broytman S. N. Istoricheskayapoetika . Moscow, Izd-vo RGGU, 2001. 405 p.
- Mal’chukov L. I. Na grani dvukh soznaniy. Dialogizm kak printsip poetiki brat’ev Mann (1890-1910 gg.) . Petrozavodsk, Izd-vo PetrGU Publ., 1996. 525 p.
- Mann T. “King’s Highness” . Sobranie sochineniy: V10 t. . Moscow, GIKhL Publ., 1960. Vol. 9. P. 371-378.
- Mann T. From the diaries/Intr. I. Ebanoidze “Whose life is a symbol” . Novyy mir. 1996. № 1. P. 181-202.
- Mann T. King’s Highness . Sobranie sochineniy: V 10 t. . Moscow, GIKhL Publ., 1959. Vol. 2. P. 7-358.
- Mann T. Tonio Krjoger . Sobranie sochineniy: V10 t. . Moscow, GIKhL Publ., 1959. Vol. 7. P. 194-259.
- Mann G., Mann T. Epokha; Zhizn’; Tvorchestvo. Perepiska . Moscow, 1988. 413 p.
- Pavlova N. S. “ Intellectual novel” . Zarubezhnaya literatura XX veka /L. G. Andreev, A. V. Karel’skiy, N. S. Pavlova. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 2000. P 194-251.
- Rusakova A. V. TomasMannvpoiskahh "novogogumanizma”. Leningrad, Izd-vo LGU, 1969. 158 p.
- Kurzke H. Thomas Mann. Das Leben als Kunstwerk. Wuerzburg, 2000. 683 s.
- Kurzke H. Thomas Mann. Epoche-Werk-Wirkung. Muenchen, 1991. 213 s.
- De Mendelssohn P. Der Zauberer. Das Leben des deutschen Schriftstellers Th. Mann. Erster Teil. 1875-1918. Fr/M, 1975. 754 s.