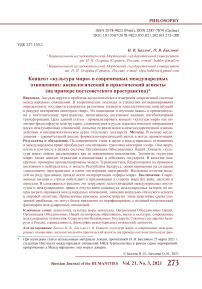Концепт "культура мира" в современных международных отношениях: аксиологический и практический аспекты (на примере постсоветского пространства)
Автор: Бахлов Игорь Владимирович, Бахлова Ольга Владимировна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (55), 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение. Актуализируется проблема аксиологического измерения современной системы международных отношений. В теоретических подходах и стратегиях позиционирования определенных государств содержатся различные элементы идеалистических конструкций в ракурсе восприятия категории «мир». Их понимание и изучение важны и применительно к постсоветскому пространству, испытавшему негативное влияние постбиполярной трансформации. Цель данной статьи - проанализировать концепт «культура мира» как политико-философскую конструкцию, сложившуюся в русле идеалистического направления науки международных отношений, попытки ее реализации в межгосударственном взаимодействии и внешнеполитическом курсе отдельных государств. Методы. В основе исследования - сравнительный анализ, формально-юридический метод и метод декомпозиции. Результаты и обсуждение. На современном этапе в науке о международных отношениях и международном праве преобладает «позитивная» трактовка категории «мир». Она закреплена в том числе в рамках системы Организации Объединенных Наций. Концепт «культура мира» можно рассматривать как ее нормативное воплощение. Элементы «культуры мира» также находят отражение в инициативах и действиях государств. В качестве конкретных примеров проанализированы модель Туркменистана, базирующаяся на принципе постоянного нейтралитета, и модель Республики Беларусь, ориентированная на создание «диалогового пространства» и идею «интеграции интеграций». Выделены отличия моделей по ряду признаков, прежде всего интерпретации «сферы мира». Заключение. Современные вызовы и угрозы побуждают к продвижению в сторону мира без войн, насилия и агрессии. В сложившихся реалиях это затруднено делегитимацией международных институтов и международного права и отсутствием консенсуса международных акторов по вопросам регулирования международных отношений, значения морально-этического аспекта в мировой политике. Приведенные примеры демонстрируют лишь некоторые срезы указанной проблемы, но могут более предметно ее верифицировать с позиций политической философии международных отношений.
Аксиология, культура мира, ненасилие, организация объединенных наций, организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры, современные международные отношения, содружество независимых государств, союзное государство беларуси и России, справедливость, философия международных отношений, ценности
Короткий адрес: https://sciup.org/147236023
IDR: 147236023 | УДК: 327:130.2 | DOI: 10.15507/2078-9823.55.021.202103.273-288
Текст научной статьи Концепт "культура мира" в современных международных отношениях: аксиологический и практический аспекты (на примере постсоветского пространства)
Современная система международных отношений, формирование которой началось после распада биполярного мира, характеризуется существенной нестабильностью межгосударственных отношений в целом и расширением конфликтного потенциала в местах традиционной напряженности, появлением новых зон конфликта и активизацией международных кризисов и кризисных ситуаций. Институциональные и нормативные инструменты урегулирования конфликтов и разрешения кризисов, сложившиеся в рамках Организации Объединенных Наций (ООН) в эпоху холодной войны и подкрепленные политическими гарантиями, либо не срабатывают в изменившихся реалиях, либо утрачивают эффективность.
В связи с этим на рубеже 1980– 1990-х гг. особую актуальность приобрел поиск нормативно-ценностных оснований для мирного сосуществования субъектов в рамках трансформирующейся системы международных отношений. Он осуществлялся в рамках ООН на базе теоретических конструкций в русле политического идеализма (иренология, «мирные исследования» / «исследования мира» и др.). Выражением и определенным промежуточным результатом такого поиска стала миротворческая концепция, инициированная ООН и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в 1990-х гг., закрепленная в их основополагающих документах, – «Культура мира» (Culture of Peace).
Концепт «культура мира» как политико-философская конструкция, наполненная глубоким идеологическим содержанием, оказал сильное влияние на современную теорию международных отношений, акты международного и национального права, обоснование и внедрение практических моделей позиционирования государств на международной арене.
Востребован данный концепт и государствами постсоветского пространства как зоны, для которой последствия распада биполярной системы были весьма ощутимыми и болезненными.
Цель настоящего исследования – проанализировать концепт «культура мира» как политико-философскую конструкцию, сложившуюся в русле идеалистического направления современной науки международных отношений, а также практические попытки ее реализации в межгосударственном взаимодействии и внешнеполитическом курсе отдельных государств.
Задачи: выявить и охарактеризовать идейные предпосылки и теоретические основания концепта «культура мира»; показать динамику становления и имплементации данного концепта на уровне международных организаций и в современной практике межгосударственных отношений, акцентировав его значимость для их нормативно-ценностного компонента; выделить национальные модели реализации внешнеполитического курса, базирующиеся на концепте «культура мира» или использующие его элементы.
Методы
Общим методологическим подходом, положенным в основу исследования, выступает аксиологический подход. Ключевая категория аксиологии – понятие «ценности». В контексте современных международных отношений представляется более применимым не классическое истолкование ценности как свойства оцениваемых объектов или как образца для оценки [4, с. 17–18], а скорее «неклассическое» – как отношения, в частности, между оцениваемым объектом и утверждением о том, каким должен быть этот объект. При этом мы соглашаемся с мнением, что аксиологический анализ, в том числе в мирополитической области, носит культурно-исторический, а не абсолютный характер [12, с. 113–114].
Категория культуры является важной для таких актуальных в современной науке международных отношений направлений, как постмодернизм и конструктивизм, связанных с критикой позитивизма. В них она воспринимается как социально установленные структуры, определяющие смысл человеческой деятельности, в качестве семиотического измерения социальных практик [1, с. 5, 10–11].
В постмодернизме принципиально утверждение, что реальность – это социальная конструкция, творимая с помощью убеждений, поведения, языка, концепций и парадигм. М. М. Лебедева справедливо замечает, что постмодернисты обращаются к более общим, по сравнению с предшествующей теорией международных отношений и политологией, философским категориям, включая справедливость, ценности и т. п.1
В рамках конструктивизма самое пристальное внимание уделяется роли идей в формировании международной системы. Идеи трактуются как цели, угрозы, опасения, особенности, иные элементы действительности, влияющие на политику и действия участников международных отношений. Идееобразующие факторы, согласно конструктивистам, могут превосходить материальные опасения. Благодаря этому в интерпретацию сферы международных отношений привносится взгляд, присущий ранее философской феноменологии. Рационалистическая модель международного актора как максимизатора краткосрочной прибыли замещается социологически фундированным представлением [5, с. 106; 11, с. 84].
При написании статьи использовались сравнительный анализ (такие его разновидности, как кросс-национальный – в ис- следовании практик отдельных государств на постсоветском пространстве – и сравнительно-ретроспективный – в изучении динамики формирования и реализации концепта «культура мира»), формальноюридический метод, применяемый к анализу правовых актов международного и национального уровней, а также метод декомпозиции, предполагающий структурное разделение концепта «культуры мира» как сложного объекта на меньшие составляющие. В данной статье таковыми можно признать его идейно-теоретические истоки, нормативно-документальные основы и практические модели разного уровня.
Результаты и обсуждение
1. Идейно-теоретические истоки концепта «культура мира» восходят преимущественно к гроцианской (Г. Гроций «Три книги о праве войны и мира», 1625) и кантианской (И. Кант «К вечному миру», 1795) традициям. Их основоположниками и последователями (например, российским философом и дипломатом В. Ф. Малиновским («Рассуждения о мире и войне», 1803) или отечественным юристом-международником Ф. Ф. Мартенсом («Современное международное право цивилизованных народов», 1882–1883) были обоснованы необходимость перехода от «культуры войны» к «культуре мира» и новое понимание категории «мир». Так, согласно И. Канту, мир есть «высшее благо», кроющееся в доброй воле людей и всего человечества. «Вечный мир» – состояние отношений между суверенными государствами, которые урегулированы правом так, что ликвидированы основания для военных столкновений2.
Соотношение войны и мира, восприятие содержательных и смысловых характеристик категории «мир», его системообразующих ценностей менялось на протяжении столетий [23]. Постепенно негативная трактовка мира («мир есть отсутствие насилия») в мироисследовательской парадигме сменилась позитивной (мир как «проявление гармонии, справедливости и любви между людьми»), усилились акценты на «правовом порядке» (немецкий политолог Р. Зедельман и др.) [8, с. 107–108]. Признание ценности мира и ненасилия было свойственно «мирным исследованиям» («исследованиям мира»), возникшим в 1950-е – начале 1960-х гг. (Й. В. Галтунг, К. Боулдинг и др.). Его представители, в отличие от идеалистов первой половины ХХ в., предприняли попытку соединения теории и конфликтологической практики [13, с. 18]. В частности, норвежский социолог Й. В. Галтунг разграничил «значение мира» (отсутствие войны) и «сферу мира» (образ предпочтительного миропорядка). Последняя имеет три главные вариации – универсалистскую, групповую и личностно ориентированную. Кроме того, он выделил такое состояние мира, как «серая зона», – промежуток между войной и миром, разные периоды и значения мира, когда предпринимаются попытки частичного снятия конфликтных точек, их нагнетания и перехода от хаоса к сбалансированному миру. В целом исследователь также различал «негативный мир» и «позитивный мир». Он предложил определение мира как противодействия насилию, что содержательно расширило наполнение концепта мира по сравнению с его узкой трактовкой как противостояния военным действиям, что было типично для вышеназванных традиций [9; 20–21].
В контексте постбиполярной и современной мирополитической ситуации интересна концепция американского политолога О. Ричмонда. Размышляя о различных моделях мира, он интерпретирует их сле- дующим образом: «мир победителя» (мир как следствие военной победы; ключевые инструменты – принуждение к миру и поддержание статус-кво); «конституционный мир» (в основе – установление правил и норм для международной системы и функционирования государств, с артикуляцией идей демократии, рыночной экономики и космополитизма); «институциональный мир» (подразумевает учреждение международных институтов и организаций, деятельность государств-доноров по сохранению мира и порядка); «гражданский мир» (гражданская мобилизация против войн и насилия, дискриминации или угнетения, поддержка международного сотрудничества и разоружения)3. Каждая из моделей отсылает к определенным теоретико-концептуальным воззрениям: например, «мир победителя» – к реалистическим, «гражданский мир» – к критическим и пр. В свете современных тенденций и последствий распространения «цветных революций» актуально понятие «виртуального мира» – конструкта, создаваемого внешними западными силами в процессе «построения демократических институтов в постконфликтных обществах мирового Юга» в целях влияния на собственные аудитории. Учет местного контекста и отказ от одностороннего воздействия Запада возможен в рамках «гибридного мира» как сочетания миротворческой практики международных либеральных институтов с местными традициями и нормами, с привлечением местных общин, акторов [13, с. 21–22]. При этом, рассуждая о состоявшемся было прорыве для глобального гражданского общества, обещавшем более эмансипативную форму мира и способствовавшем становлению агентского пространства, О. Ричмонд приходит к выводу о неоднозначности цифровизации и назревающей «контрреволюции». В итоге в аналоге «либерального мира» возрождается вопрос о добродетелях [24]. В подобном ракурсе в современном теоретическом дискурсе подмечается еще одна уязвимость: для позитивного и устойчивого урегулирования и преобразования конфликтов, войн и насилия между группами и для построения устойчивого мира важны процессы прощения, восстановительного правосудия и примирения, интегрированные в комплекс мер реагирования различных субъектов на крупные конфликты и войны. Это и национальные политические органы, и религиозные общины, и неправительственные организации, и международные институты. Пока этого не удалось добиться [17].
Сложилось несколько вариантов понимания концепта «культуры мира», так или иначе содержащих отсылки к предыдущим исследованиям в данной области:
-
1) более узкая трактовка: так, по мнению российского философа А. С. Капто, «культура мира» подразумевает жизнь без насилия, агрессии и терроризма, корреспондируется с морально-этическим регулированием международных отношений, порицанием культуры войны [7];
-
2) интегральная: в частности, сербский исследователь Л. Митрович настаивает на синтезе антропологически-персоналисти-ческого, социологического, культурологического и демократического подходов и прогрессивно-цивилизационной роли «культуры мира» [10, с. 87].
-
2. Нормативно-документальные основы «культуры мира» сложились во многом благодаря миротворческой деятельности ООН при поддержке ЮНЕСКО и зафиксировали несколько принципиальных новаций в рассматриваемой плоскости, вызванных к жизни постбиполярной трансформацией. Целью концепции, сформировавшейся в рамках системы ООН, является содействие глобальному движению в направлении скорейшего перехода от культуры насилия и культуры войны к культуре мира и ненасилия в третьем тысячелетии, ее приоритетная задача – формирование ценностей миролюбия, миротворчества, терпимости, неагрессивного мышления и поведения, усиления «мирных генов» и укрощения «генов агрессий».
-
3. Модели практической реализации концепта «культура мира» на постсовет-
- ском пространстве можно рассмотреть на примере внешнеполитических курсов Туркменистана и Республики Беларусь (РБ) в контексте интересов Российской Федерации (РФ) и динамики интеграционных процессов в регионе.
Подчеркивается необходимость общественной поддержки «культуры мира», понимаемой как ценности и установки, связанные с ключевыми аспектами мира – терпимостью, уважением и ненасилием [18]. Предлагается и альтернативное определение «культуры мира» как изменчивого сценария [19].
Инициированы программа «Культура мира», принятая Исполнительным советом ЮНЕСКО в 1992 г.4, Декларация о культуре мира (резолюция 53/243 Генеральной Ассамблеи (ГА) от 13 сентября 1999 г.), Программа действий в области культуры мира как основа проведения Международного года культуры мира (2000) (согласно резолюции 52/15 от 20 ноября 1997 г.) и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты (2001–2010) (согласно резолюции 53/25 от 10 ноября 1998 г.)5.
«Культура мира» в Декларации трактуется как сочетание «ценностных установок, мировоззренческих взглядов, традиций, типов поведения и образов жизни». Акцентируются уважение к жизни, прекращение насилия и поощрение ненасилия и практический отказ от насилия через посредство образования, диалога и сотрудничества; полное уважение принципов суверенитета, территориальной целостности и политической независимости государств и невмешательства в вопросы, которые, по сути, относятся к внутренней юрисдикции любого государства в соответствии с Уставом ООН и международным правом и пр. Подчеркивается неразрывная связь более полного становления культуры мира с поощрением мирного урегулирования конфликтов, взаимного уважения и понимания международного сотрудничества; укреплением демократических институтов и пр. В Программе предусматриваются привлечение гражданского общества, важная роль ЮНЕСКО, поощрение отношений партнерства и пр., намечается совокупность мероприятий по содействию становлению культуры мира6.
Концепция «культура мира» имела, несомненно, прогрессивное значение, охватывая не только юридический, но и социолого-политологический, и психологический, и философский аспекты. Ее новации в теоретическом ракурсе предполагали одновременно преобразование подходов и практик, включая расширение социального диапазона миротворчества, его механизмов, например, превентивной дипломатии, образовательных инструментов, межкультурного диалога и пр. [6]. В философском смысле понятие «мир» в ней сопрягается с идеалом и наивысшей ценностью человечества. Ее осуществление скорее могло бы коррелировать в первую очередь с внедрением моделей «институционального мира» и «гражданского мира». Однако на практике возобладал вектор приверженности модели «мира победителя», внутри которого отчетливо проявились имперские амбиции нового «гегемона» – США. Соответственно, несмотря на провозглашенные ориентиры, успехи ООН, организаций и органов ее системы, призванных содействовать не только становлению «культуры мира», но и в целом поддерживать международный мир и безопасность, в последующие годы оказались не столь значительными, как ожидалось. В 2000-е гг. продолжилась обозначившаяся ранее тенденция к наращиванию противоправных действий международных акторов, главным образом США и их союзников по Организации Североатлантического договора (НАТО), в разных регионах мира, попыток внедрения модели «виртуального мира». Новая волна дестабилизации постсоветского пространства после антиконституционного переворота на Украине в 2014 г. и невнятность действий международных институтов (например, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)) по урегулированию вспыхнувшего на Донбассе конфликта, их фактическая недееспособность, подтвердившаяся и более поздними событиями (например, эскалацией нагорно-карабахского конфликта в 2020 г.), побудили задуматься об адаптации Программы к новым реалиям. Важным шагом на этом пути можно считать обращение к обсуждению вопроса о ее возрождении на коллоквиуме ЮНЕСКО о значении международных организаций в предотвращении войн в августе 2021 г. Следует подчеркнуть в данном случае конструктивные усилия российской стороны и научного сообщества стран Содружества Независимых Государств (СНГ)7.
Основой внешней политики Туркменистана является постоянный нейтралитет. Такой статус закрепляется как внутригосударственными (Конституция Туркменистана (ст. 2, 9), Конституционный закон о постоянном нейтралитете Туркменистана, Декларация о международных обязательствах нейтрального Туркменистана в области прав человека, Концепция внешней политики Туркменистана как нейтрального государства от 27 декабря 1995 г.), так и международными актами (в первую очередь резолюциями ГА ООН 50/80А «Постоянный нейтралитет Туркменистана» от 12 декабря 1995 г. и 69/285 от 3 июня 2015 г.). Содержание принципа кратко раскрывается в ст. 9 Конституции8, более подробно – в иных названных документах.
В резолюции ГА ООН от 3 июня 2015 г. дается высокая оценка статуса постоянного нейтралитета Туркменистана как способствующего укреплению мира и безопасности в регионе, активной и позитивной роли, которую Туркменистан играет в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений со странами региона и другими государствами мира. Отмечается его вклад в межтаджикские переговоры 1995–1996 гг., межафганские в 1997 г. и др.9
Значимым аспектом реализации постоянного нейтрального статуса Туркмениста- на, отвечающим смыслу концепции «культуры мира», следует признать открытие в Ашхабаде в 2007 г. Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА). Программа действий РЦПДЦА на 2021–2025 гг. сосредоточена на пяти ключевых приоритетных направлениях: продвижении превентивной дипломатии в отношениях между правительствами стран Центральной Азии; мониторинге и раннем оповещении с целью предотвращения конфликтов; создании партнерских отношений для предотвращения конфликтов, в том числе с региональными и субрегиональными организациями; укреплении превентивной деятельности ООН в регионе; поощрении сотрудничества и взаимодействия между странами Центральной Азии и Афганистаном10. Туркменистан выступает за большую вовлеченность этой структуры в урегулирование региональной проблематики при поддержке государств – членов ООН, акцентированное и предметное взаимодействие РЦПДЦА с ОБСЕ, Европейским Союзом (ЕС), Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), СНГ.
Несмотря на особый статус ассоциированного члена в СНГ, Туркменистан проявляет заметный интерес к Содружеству. В частности, в 2019 г. он председательствовал в СНГ. Основной его задачей в течение председательства была названа всемерная поддержка развитию потенциала СНГ, наполнение деятельности Содружества новым содержанием в соответствии с объективными требованиями времени. Важнейшее направление взаимодействия в рамках Содружества – совместная работа по обеспечению прочного мира, безопасности и стабильности, эффективное партнерство в деле противодействия современным вызовам и угрозам. Акцентировалась и афганская проблематика11. Исполнительный комитет (Исполком) СНГ характеризует Туркменистан как надежного партнера ООН в деле сохранения и поддержания политической стабильности в регионе и мире, укрепления дружбы и сотрудничества, подчеркивает его активность и значимую роль в развитии интеграционных процессов на пространстве СНГ12. Положительно оценивает статус Туркменистана как постоянно нейтрального государства и российская сторона. Так, по мнению министра иностранных дел РФ С. В. Лаврова, в условиях беспрецедентных вызовов опыт нейтрального Туркменистана в налаживании мирного диалога и укреплении доверия между представителями разных народов, религий и культур становится все более востребованным. В частности, в данном контексте отмечается инициатива Ашхабада по провозглашению ООН 2021 г. Международным годом мира и доверия. Фиксируются совпадение или близость подходов России и Туркменистана к ключевым международным и региональным проблемам. Ими осуществляется продуктивное сотрудничество на различных многосторонних площадках, включая ООН и СНГ, а также в рамках Каспийского саммита и Каспийского экономического форума13. В связи с этим примечательно определение РФ как стратегического партнера Туркменистана в действующей Концепции внешнеполитического курса Туркменистана на 2017–2023 годы. Кроме РФ, в подобном качестве указывается лишь Китай. В целом Концепция ориентирована на повышение степени взаимодействия и сотрудничества в регионе и в мире в целях поддержания безопасности, благополучия и мира. В ней намечается укрепление связей с ООН, ОБСЕ, СНГ, Организацией Исламская конференция (ОИК), Движением неприсоединения14.
Помимо несомненных положительных следствий проводимого Туркменистаном внешнеполитического курса, имеются уже возникшие и потенциальные сложности. В первую очередь в текущей ситуации артикулируем опасность экспансии афганских экстремистов, что, ввиду отсутствия надежной военно-политической поддержки со стороны определенных структур, например Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), может негативно сказаться на обеспечении национальной безопасности Туркменистана. Вероятный путь ее минимизации – превращение Тур- кменистана в более весомого медиатора/ спонсора межафганского урегулирования. Однако успешность спонсорства будет обусловлена не только собственными усилиями, но и содействием ООН и иных организаций и форумов, а также влиятельных государств. Учитывая интересы России в регионе, в том числе в отношении перспектив Центрально-азиатской системы коллективной безопасности ОДКБ, можно ожидать дальнейшего сближения позиций РФ и Туркменистана. В то же время таковая вероятность представляется опосредованной китайским фактором и не должна восприниматься как безальтернативная и беспроблемная.
Во внешней политике Республики Беларусь в ракурсе «культуры мира» привлекает внимание прежде всего ее попытка создать «диалоговое пространство» в центре Европы. Ее детерминанта, среди прочего, – специфика геополитического положения Беларуси.
Указанная линия укладывается в русло многовекторности, в белорусском дискурсе трактуемой преимущественно положительно. Так, белорусский международник А. В. Шарапо подчеркивает, что в основе внешней политики РБ «лежит стремление нашей страны к интеграции в мировое сообщество на основе поиска разумного баланса собственных интересов и интересов наших партнеров» [16, с. 22]. По словам одного из ведущих белорусских философов и социологов И. И. Антоновича, Беларусь готова участвовать в меру своих сил и возможностей в формировании нового миропорядка. Самое главное, по его мнению, – «выдерживать мирную направленность внешней политики, демонстрировать готовность к всестороннему и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми государствами независимо от идеологической и политической направленности, прилагать усилия к избеганию конфронтации и урегулированию международных конфликтов…» [2, с. 56–57].
В то же время не следует забывать, что Беларусь, в отличие от Туркменистана, интегрирована и в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), и в ОДКБ, а также является участницей проекта Союзного государства Беларуси и России (СГБР). Иными словами, имеются ее безусловные обязательства и в плоскости «групповой» вариации «сферы мира», по терминологии Й. В. Галтунга. Кроме того, республика может восприниматься как буфер «на пути евроатлантических структур, действующих с дальним прицелом в отношении РФ» [3, с. 26]. И в белорусской (более осторожно), и в российской научной литературе встречаются мнения, что сложившаяся внешнеполитическая дихотомия скорее отражает политику балансирования между Востоком и Западом [15, с. 118–119] и что «геополитические развороты моментально превратят Беларусь из полюса стабильности… в очередной очаг напряженности, как это произошло с Украиной», потому важно следовать логике союза с Россией [14, с. 138].
Говоря о реализации принципа многовекторности на практике, упомянем в первую очередь об участии РБ в Движении неприсоединения, Центрально-Европейской инициативе (ЦЕИ), «Восточном партнерстве». Показательно, что в качестве титульной темы белорусского председательства в ЦЕИ в 2017 г. было избрано продвижение совместимости в Большой Европе (Promoting connectivity in a Wider Europe)15. Она соответствует смысловым характеристикам идеи «интеграции интеграций» («партнерства интеграций»), находившейся в фокусе официального курса РБ в последние годы. Идея предусматривает «диалог и практическое сотрудничество» ЕАЭС и Европейского союза (ЕС) в нескольких «сферах общего интереса» (транспорт, таможня, торговля, борьба с экономическими правонарушениями и т. д.). Предполагалось, что в перспективе такое сотрудничество станет залогом формирования общего экономического пространства «от Лиссабона до Владивостока»16. Однако кризис 2020 г. и наращивание Евросоюзом ограничительных мер в отношении РБ и ее руководства привели к серьезным корректировкам белорусской позиции. 28 июня 2021 г. в рамках «вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам» со стороны Евросоюза, Республика Беларусь приостановила участие в «Восточном партнерстве»17.
Не меньшую популярность во внешнеполитическом дискурсе РБ в направлении продвижения «объединяющей повестки» приобрела идея «Хельсинки-2». Суть этой инициативы заключается в необходимости «ухода» от конфронтации/конфронтацион-ной, разделяющей риторики, присутствующей в европейском регионе, и предложении начать либо реанимировать переговоры в рамках Хельсинкских соглашений. «Хельсинки-2» не противопоставляются «Хельсинки-1» (Заключительному акту Совеща- ния по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. и последующим договоренностям), но трактуются как потенциально более адекватные новой международной ситуации, в аксиологическом ключе продолжающие логику «духа Хельсинки». По мнению белорусской стороны, актуальна дискуссия относительно дальнейшего мирного существования государств исходя из возникновения новых вызовов и угроз, требующих адекватного ответа18. Новые вызовы и угрозы увязываются с «геополитическим разломом» между Востоком и Западом.
Идея «Хельсинки-2» озвучивалась белорусской стороной в ходе разнообразных форумов. Согласно ее позиции, широкий международный диалог для восстановления доверия и укрепления безопасности актуален и в глобальных масштабах, особенно ввиду кризиса многосторонности в ООН. Этой проблеме, в частности, была посвящена юбилейная 75-я сессия ГА ООН. Примечательно введение близкой к предлагаемой Республикой Беларусь терминологии в дискурс официальных представителей ООН, включая Генерального секретаря А. Гутер-риша, применившего выражение «новые Хельсинки» к обсуждению вопроса о запуске обновленного диалога о преодолении разногласий в странах Персидского залива19.
Существенные усилия РБ сосредоточены на обеспечении стабильности и без- опасности постсоветского пространства. Так, одним из компонентов ее платформы «диалогового пространства» является позиционирование республики в качестве медиатора переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе («минский процесс»). Напомним, что именно на минской площадке были достигнуты соглашения, положившие конец самой острой фазе вооруженного противостояния: Минский протокол от 5 сентября 2014 г. («Минск-1») и Второе Минское соглашение 11–12 февраля 2015 г. («Минск-2»). Республика Беларусь исходит из безальтернативности мирному урегулированию кризиса на востоке Украины. Cчитая, что это «конфликт в нашем регионе, в нашей семье», она поддерживает предложения о вводе на Донбасс миротворцев, в том числе белорусских, а также о расширении переговорного формата, в частности, за счет подключения США20. Вместе с тем в последнее время, опять же, среди прочего, под влиянием кризиса 2020 г., минская площадка утратила прежнюю геополитическую функциональность для белорусской стороны, хотя ее ценностное содержание остается несомненным.
Республика Беларусь принимает непосредственное и активное участие во многих институциях в регионе СНГ, важных для «культуры мира», – Антитеррористическом центре государств – участников СНГ и др. В Концепции своего председательства в Содружестве в 2021 г. РБ акцентировала важность повышения имиджа организации на международной арене, налаживания контактов и взаимовыгодного сотрудничества с другими региональными организациями и интеграционными объединениями, выхода на создание широкой евразийской зоны со- трудничества в целях укрепления дружбы, добрососедства и взаимовыгодных отношений в регионе. Особое внимание Беларусь намерена уделить вопросу «достижения синергетического эффекта» от сотрудничества государств – участников СНГ в различных интеграционных объединениях и организациях (ЕАЭС, ОДКБ, ШОС)21. Названные ориентиры перекликаются с ее идеей «интеграции интеграций». Однако там речь шла о сопряжении европейского интеграционного вектора и вектора СНГ, здесь – фактически о содействии «большой евразийской интеграции», более созвучной инициативам РФ и другого стратегического партнера России и Беларуси – Китайской Народной Республики.
В целом представляется необходимым более плотное и тесное согласование внешнеполитических линий в СГБР в целях создания пространства солидарности РФ и РБ как международных акторов.
Заключение
Подытоживая, заметим, что в современном прочтении состояния мира преобладает его «позитивная» трактовка, что отражается во многих международных актах и решениях органов международных организаций – как глобальных, так и региональных. Ее элементы присутствуют в концепциях и осуществляемых на международной арене курсах государств. Однако на практике в современных условиях сложно обеспечить состояние мира даже в его «негативной» интерпретации. Об этом свидетельствует в том числе развитие ситуации на пространстве СНГ. Страны СНГ, заявляющие о приверженности концепту «культуры мира» и продвигающие различные конкретные инициативы по его воплощению, на деле в большей степени вынуждены руководствоваться не ценностными категориями, а материальными соображениями и (нео)реали-стической логикой.
Учитывая сложности становления стабильного и гармоничного миропорядка, основанного на общепризнанных ценностях, и специфику позиционирования партнеров по интеграционным объединениям, Россия также в большей степени должна опираться на прагматично понимаемые национальные интересы, хотя нередко в ее внешней политике прослеживается приверженность идеалистическому восприятию намерений и действий других международных акторов. Достижение идеала, нормативно сформулированного как «культура мира», требует согласованных и сбалансированных коммуникаций по вертикали и горизонтали, утверждения действенных регулятивных механизмов. Это касается и пространства СНГ, где функционирует одновременно несколько интеграционных форматов. Интересно, что на интернет-портале СНГ имеется даже рубрика «Содружество интеграций» (https://e-cis.info/news/568/). Важно добиться их непротиворечивой совместимости и взаимодополняемости. Большую роль в этом способны сыграть Российская Федерация и Республика Беларусь как главные партнеры по интеграции, а Союзное государство могло бы превратиться в действенную координирующую и направляющую площадку для остальных форматов. Текущие вызовы и угрозы наглядно демонстрируют насущность «объединяющей повестки» прежде всего во внутренних для Содружества границах.
Список литературы Концепт "культура мира" в современных международных отношениях: аксиологический и практический аспекты (на примере постсоветского пространства)
- Алексеева Т. А. Химеры страны Оз: «культурный поворот» в теории международных отношений // Международные процессы. - 2012. - Т. 10. - № 3-4. - С. 4-19.
- Антонович И. И. Внешняя политика Республики Беларусь: вчера, сегодня, завтра // Журнал Белорусского государственного университета. Социология. - 2017. - № 3. - С. 48-58.
- Годин Ю. Ф. Внешняя политика Республики Беларусь (1991-2014 гг.) // Россия и новые государства Евразии. - 2014. - № 3 (24). - С. 23-35.
- Ивин А. А., Никитина И. П. Классическое и неклассическое определения ценности // Философия и социальные науки. - 2014. - № 1. - С. 17-20.
- Казанцев А. А. «Конструктивистская революция», или о роли культурно-цивилизационных факторов в современной теории международных отношений // Политическая наука. -2009. - № 4. - С. 88-114.
- Капто А. С. Культура войны как феномен человеческой цивилизации // Общество и право. -2003. - № 2. - С. 27-32.
- Капто А. С. От культуры войны к культуре мира. - М. : Республика, 2002. - 431 с.
- Лукин А. Н. Мир и война как социально-правовая проблема // Философия права. - 2010. -№ 5 (42). - С. 105-108.
- Мацуо М. Концепция мира в исследованиях мира : краткий исторический очерк // Вестник Томского государственного педагогического университета. Серия : Гуманитарные науки. -2007. - Вып. 1. - С. 52-59.
- Милтоевич В. Культура мира : теоретико-методологический аспект проблемы // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия : Социология. - 2008. - № 2. - С. 82-89.
- Олейнов А. Г. Международные отношения в объекте научного исследования // Государственная служба. - 2011. - № 3. - С. 82-87.
- Рафалюк Е. Е. Аксиологический подход в международном праве // Журнал российского права. - 2015. - № 10. - С. 110-125.
- Смирнова А. А. Проблемы применения концепции «либерального мира» в российских исследованиях // Studia Humanitatis Borealis. - 2015. - № 2. - С. 17-33.
- Стариченок В. В. Внешняя политика Республики Беларусь: от логики обособления к логике союза // Белорусский исторический обзор. - 2019. - № 1. - С. 129-140.
- Суздальцев А. И. Республика Беларусь: эволюция политики балансирования между Востоком и Западом // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. -2019. - Т. 12. - № 2. - С. 117-137.
- Шарапо А. В. Внешняя политика Республики Беларусь на современном этапе // Весшк БДУ. Серыя 3 : Псторыя. Фiласофiя. Пшхалопя. Палиалопя. Сацыялопя. Эканомжа. Права. -2006. - № 3. - С. 15-22.
- Boehle J. Forgiveness, restorative justice and reconciliation in sustainable peacebuilding: contemporary debates and future possibilities // Global Change, Peace & Security. - 2021. -Vol. 33. - No. 2. - P. 103-123.
- Capistrano D. Education and support for a culture of peace: a critical comparative analysis using survey data // Global Change, Peace & Security. - 2020. - Vol. 32. - No. 1. - P. 39-55.
- Fernandez-Dols J.-M., Hurtado-de-Mendoza A., Jimenez-de-Lucas I. Culture of Peace : An Alternative Definition and Its Measurement // Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology. 2004. - Vol. 10. - No. 2. - P. 117-124.
- Galtung J. Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. -London : SAGE Publications Ltd., 1996. - 292 p.
- Galtung J. A Theory of Peace: Building Direct Structural Cultural Peace. - Grenzach-Whylen : Transcend University Press, 2012. - 309 p.
- Hayes J. The Democratic Peace and the new Evolution of an old Idea // European Journal of International Relations. - 2012. - Vol. 18. - No. 4. - P. 767-791.
- Piece of war: narratives of resilience and hope / by M. Dixit. - New Delhi : SAGE (SeLeCT) Publications India Pvt. Ltd., 2020. - 284 p..
- Richmond O. P. Peace in Analogue / Digital International Relations // Global Change, Peace & Security. - 2020. - Vol. 32. - No. 3. - P. 317-336.