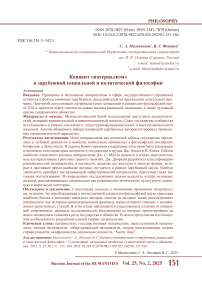Концепт «Патернализм» в зарубежной социальной и политической философии
Автор: Мальченков С.А., Федоров В.Г.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (70), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Принципы и механизмы патернализма в сфере государственного управления остаются в фокусе внимания зарубежных исследователей на протяжении длительного времени. Причиной актуализации патерналистских концепций в социально-философской науке XXI в. является поиск ответов на новые вызовы рыночной экономики, а также духовный кризис современного общества.
Патернализм, государственный патернализм, насильственный патернализм, мягкий патернализм, либертарианский патернализм, теория подталкивания, теория справедливости, конфуцианство, автономия личности
Короткий адрес: https://sciup.org/147251294
IDR: 147251294 | УДК: 316.334.3+342.5 | DOI: 10.24412/2078-9823.070.025.202502.151-164
Текст научной статьи Концепт «Патернализм» в зарубежной социальной и политической философии
Феномен патернализма часто воспринимается как продукт прошлого, отсылающий к временам господства традиционных внутрисемейных и феодальных патрон-кли-ентских отношений. Долгое время в науке преобладала позиция, проецирующая ме- ханизм власти через опекунство отца своих иждивенцев на уровне государственного управления. Согласно этой модели, монарх воспринимался в глазах народа как отец нации, покровитель государства, защитник интересов подданных, источник любви, понимания и заботы.
В классических политико-философских концепциях патернализм чаще находил негативный отклик. Его критиковали за исключительное подавление свободы человека в мышлении, принятии решений, распоряжении имуществом. Патернализм был нацелен на культивирование системного подчинения человека образу идеального правителя, что приводило к расчленению личностной автономии. Многие мыслители видели в патернализме не столько сгусток архаичности, сколько настоящее зло, несущее вред прогрессу и рациональности.
Несмотря на огромный масштаб критических интерпретаций, интерес к патернализму не ослабевал. В XX в. произошло концептуальное оформление патернализма как целостного философского конструкта. Переломный момент в теории патернализма наступил в XXI в. Перманентные глобальные изменения в рыночной экономике, а также морально-этические вызовы современной общественной системы стали стимулом к актуализации иного восприятия патерналистских концепций.
Представляется очевидным, что в последнее время внимание к теории патернализма нарастает и стремится к всеобъемлющему охвату. Ученые описывают протекание патернализма в науке, педагогике, религии и медицинской практике.
Настоящая статья посвящена анализу изменений взглядов о феномене патернализма в зарубежной социально-философской науке.
Обзор литературы
Вопрос комплексного понимания феномена патернализма нашел отражение в обширном массиве зарубежных и отечественных исследований. В общих чертах механизм протекания отеческого покровительства в многообразии социальных практик закреплен в западной философской мысли. Можно выделить классические труды Аристотеля [1], Дж. Локка [4], И. Канта [3] и Дж. С. Милля [5; 6].
Концептуальный каркас патернализма, включая обоснованное определение понятия, выражен в работе Дж. Дворкина «Патернализм» (1972) [20]. В XXI в. появилось немало авторов, которые интересовались проблемой эффективности различных форм патернализма. Можно назвать публикации Д. Байлера [17], М. Барнетта [14], Б. Бек [15], Н. Бен-Моше [16], П. Ведекинда [39], С. Конли [19], Я. Патковой [31], Р. Рой и Ф. Коллинза [32], Э. Хуна [24].
Идея либертарианского патернализма как одной из проекций мягкого патернализма впервые была выражена в книге Р. Талера и К. Санстейна «Nudge. Архитектура выбора» [37]. Новая интерпретация патернализма повлекла за собой большой каскад публикаций. С одной стороны, Й. Нисс [25] и Н. Гейн [21] положительно оценивали неклассический подход авторов к построению рассуждений о патернализме. С другой - Ш. Райан [33] и Д. Скоччиа [34] рассматривают либертарианский патернализм с критических позиций.
Анализ феномена патернализма нашел отражение и в трудах отечественных исследователей. Одна из наиболее ранних работ принадлежит Т. Ф. Ермоленко [2], которая не только исследовала патерналистские аспекты политической культуры России, но и систематизировала подходы к пониманию патернализма. В работах Н. В. Шушковой впервые в отечественной науке выделены этапы формирования учения о патернализме и, в частности, отмечены причины расхождения в подходах, которое наметилось в XX в.: неслучайно в названии одной из ее публикаций патернализм охарактеризован как «ускользающий» [12]. Сравнительный анализ патерналистских воззрений мыслителей Нового времени содержится в исследовании В. Д. Спасова [11]. Заметный вклад в развитие представлений о новейших формах патернализма внесли публикации А. Я. Рубинштейна и А. Е. Городецкого
[10], Н. В. Путило и Н. С. Волковой [8], а также О. В. Романовской [9].
Отметим, что в последние годы количество публикаций на тему патернализма возросло. Такая тенденция объективно объясняется повышенным вниманием к поиску баланса отношений между покровителем и опекаемым в социально-политической философии. По этой причине назрела необходимость в новых исследованиях проявления патернализма в различных социальных практиках XXI в.
Материалы и методы
Многообразие сущностных характеристик понятия «патернализм» диктует необходимость обращения к широкому кругу методологических подходов для комплексного изучения данного явления. В первую очередь отметим значимость аксиологического подхода, который позволил выявить различные ценностные аспекты толкования патернализма как социально-философской категории.
Исследование патернализма невозможно в отрыве от изучения его практического воплощения в истории различных государств, что предопределило применение историко-генетического и историко-сравнительного подходов. Исследовательская оптика цивилизационного подхода дала широкие возможности для сопоставления содержания и принципов патернализма в обществах Запада и Востока.
Связь общества и государства, а также их взаимовлияние друг на друга обнаруживаются благодаря использованию системного и структурно-функционального подходов. В то же время институциональный подход позволяет сосредоточиться на специфике механизма патерналистского воздействия.
Рассматривая специальные научные приемы, подчеркнем значимость для исследования диалектического метода, который предоставляет возможность анализировать проявления патернализма в общественных отношениях как сложного противоречивого объекта, находящегося в постоянном движении.
Поскольку в качестве основных материалов исследования выступили многочисленные публикации зарубежных ученых, большую роль в толковании различных подходов к пониманию патернализма сыграл герменевтический метод.
Результаты исследования
Тема отцовской власти или отцовского покровительства занимала мыслителей с глубокой древности. Особое значение отца как ревнителя ценностей целых поколений, носителя многовекового опыта народа, защитника интересов и всеобъемлющего опекуна отмечалось в древнекитайском конфуцианском учении. Особенность модели состояла в почитании верховного божества Неба, в орбите которого находилась священная фигура императора – «Сына Неба». Императорская власть и весь административно-бюрократический аппарат воспринимались как покровители обычных людей. Культ преемственности поколений и почитания предков в кровнородственных отношениях ставил во главу угла формулу всепроникающего опекунства. Государство в этой схеме отождествлялось с большой семьей: император – отец, простолюдины – младшие родственники [2, с. 34]. Конфуцианское философско-религиозное учение послужило отправной точкой в развитии представлений о патерналистской природе вертикальных иерархических социальных связей.
Описание властных отношений как семьи в античной философии восходит к концепту аристотелевской патриархии. В рамках политической философии Аристотель рассматривал домохозяйство как трехступенчатую модель властных отношений, которая состоит из трех накладывающихся друг на друга, но тем не менее самостоя- тельных типов: муж – жена, отец – сын и господин - раб. Каждый из типов в своей структуре содержит роль покровителя (муж, отец, господин) и подчиненного (жена, сын, раб). Необходимо подчеркнуть, что покровитель в своей сущности может являться одним и тем же лицом. Следовательно, Аристотель постулирует о вопросе элементарных форм власти через призму вопроса об отношениях покровителя и подчиненного [1, с. 65]. Трехступенчатая модель Аристотеля повлияла на складывание в политической философии традиционного взгляда на патриархию.
Большой пласт философских представлений о природе патернализма нашел отражение в европейской традиции XVII– XIX вв. Отправной точкой анализа патернализма послужил критический отзыв Дж. Локка на труд Р. Филмера «Патриарх, или Естественная власть королей». Автор последнего опирался на аристотелевское понимание властных отношений в семье, а именно исходил из обоснования, что источником первой королевской власти служил отец семейства. Р. Филмер предложил новаторский подход к классической модели патриархии: жены, сыновья, слуги, подданные - априори воспринимались главой семейства безропотными детьми, требующими опекунства и любви [7, с. 96].
Данные рассуждения встретили категорическое сопротивление со стороны Дж. Локка. По его мнению, патриарх обосновывает идею «всякое правление есть абсолютная монархия», сопровождаемую доказательством в виде догмы «Ни один человек не рождается свободным» [4, с. 11], подразумевая, что люди сразу же попадают под покровительство отца, тогда как по мере взросления перекочевывают под власть отца народа - абсолютного монарха (наследника Адама). В ходе всех итераций человек остается беспомощным перед лицом отца-правителя, который не только возвышался титулом, но и приватизировал «^божественное, неизменное право верховной власти, благодаря которому отец или монарх обладает абсолютной, деспотической, неограниченной и не поддающейся ограничению властью над жизнью, свободой и имуществом своих детей или подданных» [4, с. 211]. Логика патриархальнопатерналистского управления Р. Филмера наносила удар по установке о существовании естественных прав и свобод личности. Исходя из этого, Дж. Локк защищал диаметрально противоположную точку зрения: каждый человек воплощает в себе наследие Адама, в том числе свободолюбие, ниспосланное Творцом. Любая земная власть вторична, поскольку над ней сияет власть Всевышнего. Монарх, чья воля устраивать тиранию в отношении к своим подданным, обязан быть низложен народным духом справедливости.
По теме патернализма высказывался также И. Кант. В вопросе об идеальном государственном устройстве он разделял подход предшественников (в частности, позицию Дж. Локка). Философ находился у истоков концепции правого государства (Rechtsstaat), идеал которого противопоставлял патерналистскому государству (imperium paternale), ибо в патерналистском государстве «суверен хочет по своим понятиям сделать народ счастливым и становится деспотом» [3, с. 191]. Патернализм нацелен на нарушение равновесия «равного достоинства людей». По И. Канту, уважение к достоинству личности заключено в уважении к его способности свободно думать и действовать независимо. Установка на патернализм вопреки волеизъявлению навязывает человеку мысли о собственной безропотности, внедряет комплексную модель бездумного подчинения образу покровителя. При патерналистской форме общественных отношений к человеку относятся как к средству, но не как к цели. И. Кант апеллировал к обратному постулату, что человек должен быть целью, а не средством, посему патернализм противоестествен, ничтожен и недопустим [11, с. 285].
Ярым противником патернализма принято считать английского мыслителя XIX столетия Дж. С. Милля. Философ настаивал, что вопреки деструктивному поведению личности по отношению к себе (например, умышленное причинение вреда здоровью) выбор всегда осуществляется человеком и не должно быть вмешательства в его волю. Единственная причина, которая способна повлиять на ограничение свободы человека, – возможность причинения вреда другим людям (принцип предотвращения вреда).
Изначально Дж. С. Милль убеждал полностью запретить патернализм. Во-первых, власть патрона может зиждиться на корысти, тщеславии, продажности и злоупотреблении полномочиями. Власть имущие используют патерналистскую установку в интересах самоличного обогащения в противовес интересам граждан. Подобные махинации приводят к нанесению вреда и ограничению личностной свободы. Во-вторых, правители с благими намерениями не могут достаточно отразить настроения народа, определить их правильно, поэтому в большей степени благо народу преподнесут выходцы из народа [6, с. 85].
Дж. С. Милль критически относился к предоставлению государству широких дискреционных полномочий для принятия патерналистских законов. Стоит отметить, что сторонники мыслителя, в особенности консеквенциалисты, не были согласны с его трактовкой о полном табуировании патернализма. В защиту своих доводов они приводили тезис об успешных патерналистских ограничителях: применении мер государственного принуждения, оправданных для предотвращения психологического вреда (а не только явного, физического урона личности), а также для ограничения свободы человека за аморальное поведение, которое в силу обстоятельств не несет адресного вреда, а скорее подрывает ценностный фундамент общества. Когда люди выражают недовольство патернализмом, они скорее всего имеют в виду патернализм неудачный (тиранический).
Ответом критикам послужила перфекционистская концепция счастья. По мнению Дж. С. Милля, счастье человека зависит от способности ответственно контролировать свое поведение. Получается, что личностное благо достигается путем ответственного выбора, целеполагания и самоутверждения. Личная автономность воплощает важный компонент собственного блага, тогда как патернализм предсказуемо размывает благо [6, с. 103]. Перфекционизм Дж. С. Милля не обосновывает абсолютного запрета патернализма, но указывает на проблемы достижения успешного патернализма: благоприятное вмешательство государства в дела автономного субъекта без нарушения свободы воли – утопия. В связи с уровнем допустимых свобод, которые определяют важность совершения мыслительных способностей, необходимо допускать ограничение таких свобод для совершения действий, направленных на лишение человека воли на реализацию все тех же свобод. Таким образом, Дж. С. Милль проводит черту, принципиально отвергающую запрет обычного патернализма [5, с. 114].
Концептуальный макет патернализма, включающий его основополагающее определение, появился во второй половине XX в. в работе «Патернализм» Дж. Дворкина. Под патернализмом он понимал «вмешательства (действия или бездействия), которые посягают на свободу или личную автономию человека без его явного или подразумеваемого согласия и для его собственного блага» [20, p. 65].
Дж. Дворкин отметил три ключевых компонента патерналистских практик:
-
а) ограничивают свободы человека;
-
б) совершаются без согласия субъекта;
-
в) совершаются для блага или благополучия субъекта [15, p. 224].
Свои рассуждения Дж. Дворкин строит на критическом анализе выводов Дж. С. Милля с опорой на консеквенци-алистскую парадигму. В его понимании патернализм обеспечивает автономию в целом, вопреки ограничению автономии в конкретном случае. В общих чертах Дж. Дворкин пытается доказать, что комплексная положительная польза от патернализма нивелирует краткосрочную отрицательную практику применения.
В контексте презумпции патерналистского посягательства на свободу (юридическую) или автономию (моральную) патернализм позиционирует себя в рамках бинарной концепции. Исходя из этих доводов, выявляется проблема юридическо-го/морального истолкования и оправдания патерналистского вмешательства. Ценностная оценка этических представлений людей заключена в масштабном плюрализме, что в свою очередь усложняет задействование патерналистской практики. В таких обстоятельствах Дж. Дворкин постулирует необходимость обращаться с каждым этическим кейсом в отдельности. Подмечается факт эксплуатации патернализма исключительно в тех случаях, когда посягательство на ограничение свободы носит тривиальный характер. Государственная власть должна нести бремя ответственного доказательства и выбора наименьшего ограничения в целях служения патернализма полезному благу [20, p. 80].
Впервые в истории социальной философии Дж. Дворкин осуществил подробную типологизацию патерналистских практик. Он выделял существование жесткого и мягкого патернализма, широкого и узкого патернализма, сильного и слабого патернализма, чистого и нечистого патернализма, патернализма благополучия и морального патернализма [20, p. 82]. Учение Дж. Дворкина посеяло зерно сомнения в однозначное понимание патернализма, что послужило стимулом к строительству полноценного концепта нового патернализма.
Анализ зарубежных научных трудов первой четверти XXI в. демонстрирует, что содержательная широта концепта «патернализм» не только не сокращается, но и приобретает новые значения. Имеющиеся в литературе подходы можно разделить на несколько групп. Одним из критериев такого деления может стать оценка эффективности различных форм патернализма. В последние годы типологизации не ограничиваются делением патернализма на сильный и слабый, жесткий и мягкий. Н. БенМоше предлагает ввести разграничение на внешний и внутренний патернализм: последний, по его мнению, фактически вызывается желанием самого опекаемого объекта [16].
Стоит отметить, что в настоящее время за рубежом сохраняется немало сторонников жесткой разновидности патернализма. Например, С. Конли в своей нашумевшей книге 2012 г. «Против автономии: оправдание принудительного патернализма» [19] подробно разбирает негативные издержки государственного контроля и приходит к выводу, что они не перевешивают положительные последствия. Такой подход также распространен в азиатских странах. В частности, автор из Гонконга Э. Хун защищает жесткий патернализм с позиций конфуцианского представления о государстве как большой семье [24].
К более обширной группе относятся работы, авторы которых вслед за Дж. С. Миллем рассматривают патернализм в негативном контексте и соотносят его с проявлением авторитарных тенденций. Впрочем, внутри этого направления также просматриваются две основные вет- ви. Одна из них подвергает критике классический жесткий патернализм, который в политической сфере в наиболее явной форме прослеживается в межэтнических отношениях. Я. Паткова из Карлова университета, рассуждая об отношениях чехов и их «младших братьев» словаков на рубеже XIX–XX вв., сравнивает патернализм с колониализмом [31, p. 79]. Аналогичные процессы наблюдаются и сегодня. Р. Рой и Ф. Коллинз соотносят патернализм и расизм применительно к положению в Новой Зеландии сезонных рабочих с островов Тихого океана [32]. Наконец, наиболее трагичным явлением представляется насильственный патернализм: этим термином Д. Байлер характеризует политику КНР по отношению к уйгурам [17].
Вторая линия критики, вероятно, представляет собой новое явление: она направлена уже не на явные проявления патернализма, а на его новейшие мягкие формы (термин Дж. Фейнберга), которые до недавнего времени было принято воспринимать как исключительно позитивные. Так, П. Ведекинд приходит к выводу, что любые формы заботы со стороны государства (в том числе проявления так называемого “Nanny state”, т. е. борьба с курением, потреблением сахара и т. д.) в конечном счете направлены на ограничение социальной и политической свободы [39, p. 310]. М. Барнетт и вовсе видит в мягком протекционизме «глобальную угрозу», поскольку увеличение роли государства, по его мнению, неминуемо сформирует условия для возникновения мирового правительства [14, p. 216].
Пожалуй, наиболее активно обсуждаемым в научной среде ответвлением теории патернализма в XXI в. стал так называемый либертарианский патернализм, растущее влияние которого требует воспринимать его шире, чем одно из проявлений мягкого патернализма. Отправной точкой данного направления следует считать выход в 2008 г.
книги Р. Талера и К. Санстейна «Nudge. Архитектура выбора» [37]. В современной русскоязычной литературе еще нет устоявшегося наименования ключевого для данного подхода термина: ряд авторов используют понятие nudge без перевода, в то время как другие используют выражение «теория подталкивания». Ключевое положение либертарианского патернализма действительно можно выразить как подталкивание (при минимальном вмешательстве и затратах) людей к поведению, которое выгодно государству или иному субъекту власти.
Появление принципиально новой трактовки патернализма неминуемо вызвало к жизни большое число публикаций о будущем либертарианского патернализма, дискуссии о котором активно продолжаются в зарубежной науке 2010–2020-х гг. Польский экономист А. Остапюк находит у подталкивания много общего с так называемым подходом, основанным на возможностях, сформулированным А. Сеном и М. Нуссбаум [30, p. 457]. Й. Нисс, положительно оценивая перспективы либертарианского патернализма, полагает, что понятие «архитектура выбора» должно быть заменено на менее жесткий термин «архитектура предпочтений» [25, р. 12]. Н. Гейн в своей работе подробно сопоставляет плюсы и минусы подталкивания: одним из последних он называет гендерные аспекты данного механизма [21, p. 131].
Неудивительно, что у либертарианского патернализма в последние годы наметилось множество критиков. Так, например, Ш. Райан полагает, что такая форма воздействия в наибольшей форме нарушает волю объекта, а потому предлагает определять подталкивание как самое очевидное в современном мире проявление жесткого патернализма [33, р. 66]. Д. Скоччиа утверждает, что политика государства должна преодолеть «навязывание жертвам своей цели» и постепенно перейти в фор- мат так называемого благоразумного патернализма [34, p. 22].
Помимо спора о наиболее эффективных разновидностях патернализма, в современной зарубежной науке не стихает дискуссия о философских основаниях и идейных принципах этого явления. Представляется, что можно выделить четыре основных подхода, преобладающих в исследованиях XXI в.
-
1. Патернализм как рационально-логическая категория
-
2. Патернализм как культурная категория
-
3. Патернализм как правовая категория
-
4. Патернализм как моральная категория
Понимание патернализма в контексте теории принятия решений широко распространено, в первую очередь в экономике. Неслучайно один из творцов либертарианского патернализма Р. Талер неоднократно был соавтором Д. Канемана и А. Тверски. Впрочем, современные авторы видят в рациональном толковании не только плюсы. М. Чолби полагает, что «рациональное убеждение обычно отклоняет обвинения в патернализме», поэтому важно не избавиться от патернализма как такового, а устранить его негативные последствия [18, p. 125]. Х. Андреу отмечает, что патернализм будет более эффективен, если исключить из него так называемое предположение о превосходстве, т. е. все иррациональные элементы властных отношений [13, p. 3].
В этом контексте патернализм понимается через представление о культурном капитале П. Бурдье. Данный подход прямо связан с экономическим толкованием патернализма, которое ранее преобладало в науке. К. Конрад и С. Саймон, опираясь на представления Р. Инглхарта о цене счастья, исследовали вопрос об удовлетворенности жизнью во время пандемии COVID-19 [26]. Они обнаружили очевидную обратную связь между предпочтением патерналистских вмешательств государства и высокой оценкой личных свобод.
Представители данного направления в первую очередь задаются вопросом о том, как принципы государственного патернализма могут быть встроены в систему управления. М. Гроссман видит разницу между жестким и мягким патернализмом именно в возможности установления «формальных правил» [22, p. 34]. Дж. Тернер, опирающийся на принципы теории справедливости Дж. Роулза, уточняет, что патернализм должен не подаваться как персонифицированное право отдельных лиц, а быть безликим и в правовом контексте находиться на расстоянии от прав человека [38, p. 29]. Важно подчеркнуть, что авторы-правоведы не стремятся абсолютизировать юридическое толкование: неслучайно С. Шайнтул в двух отдельных статьях [35; 36] устанавливает симметричную нормативную связь между патернализмом и правами, а также между патернализмом и верой.
В рамках данного подхода акцент делается на правомерности патерналистских отношений с этических позиций. Л. Хаза-рика из Университета Дж. Неру анализирует моральные условия, при которых патерналистское отношение или поведение считаются проблематичными [23, p. 111]. Значительный интерес представляет предложенная М. Нильсеном категория «само-патернализм», при котором внешнее навязывание глубоко проникает в моральные нормы человека и спустя некоторое время начинает исходить от него самого [28, p. 30]. Б. Бек резюмирует, что обоснование патернализма диалектически зависит от понимания свободы и автономии в том или ином обществе [15, p. 223].
Стоит также отметить, что помимо политико-философского толкования патернализма, в рамках которого в качестве субъекта обычно выступает государство, в современной науке по-прежнему популярны работы о проявлениях патернализма в сферах, на первый взгляд далеких от политики. В частности, выходит большое число публикаций о медицинском патернализме в отношениях врача и пациента. Я. Ортманн вслед за Б. Латуром пишет о патернализме в науке, который часто проявляется в ее перформа-тивности, т. е. в стремлении подогнать реальность под результаты исследования [29, p. 16]. Весьма интересны выводы Э. Мука-рьи о патернализме в религии, в частности в миссионерской деятельности [27]. Эти и другие исследования также раскрывают отдельные составные элементы понимания патернализма в XXI в. и прямо отражают социальные конструкты современного общества.
Обсуждение и заключение
Подводя итоги, еще раз подчеркнем, что наметившееся еще во второй половине XX в. расхождение в подходах к пониманию патернализма в научной литературе в последнее десятилетие не только не было преодолено, но и существенным образом расширилось.
Проведенный в рамках исследования анализ широкого круга научных публикаций по данной теме показал, что категориальный аппарат зарубежных исследователей не всегда совпадает с пониманием патернализма в рамках отечественной науки. Действительно, российские ученые главным образом исследуют патернализм в контексте исторического и цивилизационного своеобразия российской государственности, выводя на первый план принципы этатизма. В этом смысле прослеживается некоторое сходство трактовок с позициями азиатских исследователей: авторы из Индии и Китая также предпочитают искать корни патерналистских настроений в обществе в традициях и религиозных постулатах индуизма, ислама, конфуцианства.
Существенным своеобразием характеризуется изучение теории и практики патернализма в современной западной науке. Продолжая линию Дж. С. Милля, большинство авторов отвергают жесткую разновидность этого явления. Впрочем, отрицание крайних проявлений патернализма сформировало почву для возникновения многочисленных альтернативных трактовок, базирующихся на принципах экономики, политологии, социологии, культурологии, а также юриспруденции. Короткий всплеск популярности либертарианского патернализма не дал исчерпывающих ответов на новые вызовы современности, одним из которых, в частности, стали масштабные ограничения свободы личности в период пандемии COVID-19. В настоящее время многие зарубежные ученые сознательно выстраивают собственную модель патернализма, основываясь на критике уже имеющихся подходов. Парадоксально, что мягкие формы патернализма, которые еще недавно рассматривались как универсальная панацея от его негативных последствий, сегодня отрицаются рядом авторов как недемократические в условиях существенной эволюции восприятия авторитаризма и демократии.
В целом можно констатировать, что в XXI в. патернализм остается неуловимой и ускользающей категорией социально-философской науки. Подобное положение дел демонстрирует диверсификацию поля исследования патернализма и актуализирует необходимость построения единой теории в данной сфере.