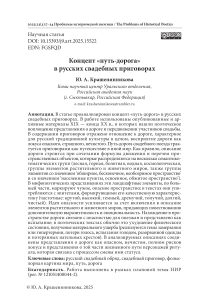Концепт «путь-дорога» в русских свадебных приговорах
Автор: Крашенинникова Ю.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирован концепт «путь-дорога» в русских свадебных приговорах. В работе использованы опубликованные и архивные материалы XIX ― конца XX в., в которых нашли поэтическое воплощение представления о дороге и передвижении участников свадьбы. В содержании приговоров отражено отношение к дороге, характерное для русской традиционной культуры в целом, восприятие дороги как локуса опасного, страшного, нечистого. Путь-дорога свадебного поезда трактуется приговорами как путешествие в иной мир. Как правило, описание дороги строится при сочетании формулы движения и перечня пространственных объектов, которые распределяются на несколько семантико-тематических групп (лесная, горная, болотная, водная, космологическая, группы элементов растительного и животного миров, также группы элементов со значением ‘обширное, бесконечное, необозримое пространство’ и со значением ‘населенные пункты, освоенное, обжитое пространство’). В мифопоэтических представлениях эти ландшафтные элементы, по большей части, маркируют чужое, опасное пространство; в текстах они употребляются с эпитетами, формирующими его качественную характеристику (частотные: крутой, высокий, темный, дремучий, топучий, долгий, чистый). Идея опасности усиливается за счет включения в описание элементов растительного и животного миров, придающих повествованию дополнительную выразительность и эмоциональность. Нахождение в пространстве дороги связано с опасностью для поезжан и представлено как испытание; в поэтических текстах обычно это ухудшение физического состояния, получение материального ущерба (реализуются темы замерзания или гипертермии, потери голоса, испытания голодом, разорванной одежды и потерянных нательных крестов). В анализируемых описаниях соединены представления о дороге как опасном, нечистом, полном рисков локусе и представления о той части жизненного пути персонажей ритуала, которая связана с процессом смены ими статуса.
Русский свадебный обряд, свадебный приговор, фольклорная картина мира, путь, дорога
Короткий адрес: https://sciup.org/147251688
IDR: 147251688 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15522
Текст научной статьи Концепт «путь-дорога» в русских свадебных приговорах
Н астоящая работа посвящена описанию пути-дороги и представлениям о пути и дороге, которые нашли воплощение в русских свадебных приговорах. Как и многие другие фрагменты мифопоэтической картины мира, представления о пути-дороге формируются набором признаков, анализ конкретных реализаций которых в различных фольклорных жанрах «способствует установлению парадигматики различительных признаков, <…> а также позволяет поэлементно соотнести систему представлений, свойственную одному жанру, с представлениями, релевантными иным жанровым структурам» [Невская, 1982: 106].
Работа строится на анализе текстов свадебных приговоров, в которых нашли поэтическое воплощение представления о дороге и особенностях дорожного поведения участников свадьбы1. В работе использованы опубликованные и архивные записи фольклорных текстов, сделанные в XIX — конце XX в. в разных регионах России, что, с одной стороны, позволяет описать инвариантную схему мотива в интересующем нас жанре, с другой — показать вариации «отступления» от схемы в некоторых локальных традициях.
В свадебных приговорах «путь-дорога» свадебного поезда является одним из сюжетообразующих, детально разработанных фрагментов, репрезентирующих традиционные представления. В содержании приговоров отражено отношение к дороге, характерное для русской традиционной культуры в целом: дорога — это «оппозиция дому, в рамках соотнесения подвижного и оседлого бытия», «сфера небытия» опасный локус и «в целом считается страшным местом» [Щепанская: 25, 164, 252]. Дорога свадебного поезда — это путешествие в иной мир2; это и путь жениха за невестой, после получения которой происходит изменение его статуса холостого человека3. В текстах описание пути-дороги формируется элементами пространственного кода, многие из которых в мифопоэтических представлениях являются маркерами чужого пространства.
Особый статус пути подтверждается выбором времени для отправления поезда за невестой. В экспедиционных материалах имеются свидетельства, в которых информанты подчеркивают строго регламентированное обрядом время отправления поезда за невестой; оно приходится, как правило, на вечерний или ночной период суток: « А дружки-те были, вот когда идут за невестой-то вечером , ночью . У невесты-то приедут вечером , и ночь пили еще » (ИЯЛИ: 1702-46, Вилегодский р-н Архангельской обл., 1996), « За невестой едет жених с родней со своей, вечером едет , к ночи . Ночь сидят с невестой, а остальные гуляют. Утром поедут к жениху пировать …» (ИЯЛИ: 1703-27, Вилегодский р-н Архангельской обл., 1996), «[Дружки] вот когда идут за девкой, за невестой , вечером , они чего-то читали » (ИЯЛИ: 1706-84, Вилегодский р-н Архангельской обл., 1996).
В приговорах поездка поезжан за невестой называется по преимуществу парным сочетанием путь-дорога, а также лексемами путь и дорога, которые образуют следующие сочетания: путь торить, держать, верстать; дорогу давать, спрашивать, делить, дорогой ехать; путь-дорогу устилать, наставлять, править, верстать, путем-дорогой ехать. Лексема дорога как в парном сочетании, так и самостоятельно может употребляться в форме диминутива (путь-дороженька). Путь-дорога в поэтических текстах характеризуется эпитетами «чужой», «дальний», «долгий» («чужая дальна сторонушка», «долга путь-дорога» и др.), конечная точка путешествия находится «далеко-далече». Эпитеты «большой», «гладкий», «широкий», которые описывают путь следования поезда как ровный, без затруднений и препятствий, встречаются в единичных фольклорных текстах. Например: «…едет наш честный княжеский поезд гладкою дорогою, улицею широкою в ваш честный дом за княгиней молодой» (РСП: 123, Вологодский у. Вологодской губ., 19244).
О. А. Черепанова, обращавшаяся к описанию концептов путь и дорога в русской ментальности и древних текстах, отметила, что лексема путь «активна и семантически наполнена уже в древнейших текстах», а лексема дорога «становится заметной» в текстах с XIV–XV вв. В текстах XI–XVII вв. лексема путь по своему семантическому объему значительно превосходит лексему дорога , которая «употребляется лишь в основном номинативном значении "пространство, по которому совершается перемещение" и, как правило, с уточняющими распространителями» [Черепанова: 313]. Исследовательница указала на резкое концептуальное и семантическое сближение лексем в последние два столетия, что выразилось «в "перетекании" семантического содержания лексемы П (путь. — Ю. К. ) в семантическое пространство лексемы Д (дорога. — Ю. К. )» [Черепанова: 315]. Говоря о концептуальной близости понятий и лексем путь и дорога в современном сознании, О. А. Черепанова заключает, что историческое их развитие «привело к тому, что в славянской культурной традиции символика пути связана с христианско-религиозным взглядом на мир, символика дороги — с языческим мировоззрением и мироощущением» [Черепанова: 316].
Одно из значений выражения путь-дорога — это пожелание счастливого пути или приветствие при встрече (Ушаков: стлб. 1080). В. А. Коршунков, анализируя напутствия и приветствия в дорожной культуре русских, отмечает, что приветствия «Путь-дорога!», «Путь да дорога!», «Путём-дорога!» были нередки в XIX в. в обиходе жителей Архангельской, Вологодской губерний, на Урале и расценивались как благопожелание [Коршунков: 28]. В этом контексте преимущественное использование в приговорах сочетания путь-дорога приобретает дополнительный смысл: из этнографических и очерковых описаний обряда известно, что приговоры с мотивом дороги произносятся в доме жениха перед отправлением за невестой (ситуация «проговаривание наперед» как своеобразное заклинание хорошего, удачного пути) или в момент приезда свадебного поезда в дом невесты (ситуация «воспоминание об опасном пути»). В указаниях современных исполнителей также зафиксированы сведения, что дружка «заводит свою фантазию» (начинает произносить приговор с мотивом дороги. — Ю. К.), еще не доехав до невесты, т. е. в момент реального пути (ИЯЛИ: 1703-34, Вилегодский р-н Архангельской обл., 1996). Таким образом, именно в приговорах, а не в реальности путь свадебного поезда предстает как далекий, опасный, пространство невесты — труднодоступное, соотносимое с иным миром, а жених и поезжане «обрекаются» на заведомо удачное завершение своего путешествия.
В свадебных приговорах, записанных в разных локальных традициях, описание пути-дороги реализуется чаще всего по модели: формула движения «Мы ехали (вар.: ехали-попоеха-ли, нам ехать) (по, через)» + перечень пространственных объектов, которые встречаются на пути поезжан, например: « Мы ехали чистыми путями, зелеными лугами, наволочными местами, дремучими лесами, грязи топучие, ручьи рябиновы, мосты калиновы, озера тихие, реки быстрые, моря чистые » ( РСП : 384, Шенкурский у. Архангельской губ., 1854). Эта модель — ядро мотива, регулярный элемент, формирующий изображение дороги в значительном количестве известных нам текстов, и одна из показательных констант жанра свадебных приговоров.
Пространственные элементы, задействованные в описаниях, распределяются на несколько семантико-тематических групп: лесная, горная, болотная, водная, космологическая, растительная, зоо-орнитоморфная, также группа элементов со значением ‘обширное, бесконечное, необозримое пространство’ и со значением ‘населенные пункты, освоенное, обжитое пространство’.
-
• «Лесная» группа (лес, бор, волок): леса темные 5, дремучие ; боры частые, темные, сухие ; волока долгие , дремучие (един.). В единственном числе употребляются волок долгий (един.), лес зеленый (един.).
-
• «Горная» группа (гора): горы крутые , высокие , сионские ; угор (един.).
-
• «Болотная» группа (болото, грязи): болота зыбучие , топучие , грязные (един.); грязи черные , топучие ; воды вязучие (един.).
-
• «Водная» группа (река, ручей, озеро, море): реки (вар.: речки) быстрые , глубокие , мелки ; ручьи рябиновы , глубокие (един.); озера тихие , глубокие , светлые (един.); моря синие , глубокие , чистые (един.).
-
• Объекты, связанные с освоенным человеком пространством: города уездные ; деревни большие , долгие , мелкие ; переулки узки ; села (един.), слободы (един.), проселки-деревни (един.), улки (един.).
-
• Группа элементов, подчеркивающих открытость, бесконечность, необозримость пространства: поля чистые , широкие ; луга зеленые , шелковы (един.); травы шелковые ; дороги далекие (един.), широкие (един.), большие (един.); словосочетания дивные места, далекая далица , широкое раздолье , заповедные луга отмечены по одному разу.
-
• Группа климатических, космологических элементов: снега белы ; звезды (вар.: звездочки) частые , мелкие ; солнце (вар.: солнышко) красное ; месяц светлый , младый (един.), ясный (един.); облака кудрявые (един.), ходячие (един.), темные (един.), черные (един.); небо синее (един.).
-
• Группа элементов растительного мира: кусты ракитовые , древо зелено-кудряво , кипарис, дуб огромный .
-
• Группа элементов животного мира: медвежье логово=мед-ведь (един.), зверье (един.), черные враны (един.).
К «водной» и «болотной» группам также отнесем лексемы, по своим значениям связанные с водой, характеризующиеся топкостью, влажностью: мырки-нырки, веретейки, долы широкие, ливы тонучие (един.), овраги глубокие (един.), яры крутые (един.), места поволочные (вар. наволочные), тербы зыбучие (един.), мхи дыбучие (един.)6. К «лесной» группе можем отнести сочетание черные тропы (един.), для характеристики необитаемого, безжизненного пространства служат сочетания пустыни7 песчаные (един.), пески сыпучие (един.).
Не всегда перечень объектов, встречающихся на пути поезда, бывает развернут: зачастую в экспедиционных материалах конца XX — начала XXI в. он может состоять из двух словосочетаний: « Ехали-попоехали / По чистым полям, / По зеленым лугам, / К дому приехали, к невесте » (ИЯЛИ: 1701-57, Вилегодский р-н Архангельской обл., 1996) — или парной конструкции, члены которой утратили эпитеты: « Ехали-попоехали лесами-полями / И доехали, где наша суженая живет » (ИЯЛИ: 1702-29, Вилегодский р-н Архангельской обл., 1996). Но при этом значение пути-дороги как путешествия, долгого по продолжительности, сохраняется благодаря конструкциям с глаголами несовершенного вида прошедшего времени и употреблению пространственных элементов во множественном числе.
В единичных вариантах изображение протяженной по времени поездки реализуется через констатацию смены дня и ночи ( « Мы е хали день до вечера, / Ночь до утра ясного… »
( Колобов : 58, Пудожский у. Олонецкой губ.) ) 8 или времен года ( « Мы ехали, сватушко, путем-дорогою, приняли голоду и холоду, стужи и морозу, тепла и жары… » ( РСП : 130, Нерехтский у. Костромской губ., 1853) ) . Дальность поездки за невестой передается посредством формул, характеризующих движение коня жениха или коней всего поезда по вертикали (« выше лесу стоячего , пониже облачка ходячего ) и горизонтали («[скакал конь] с горы на гору, с холмы на холму ») — эти формулы также обнаруживают варианты в былинных и сказочных текстах9. Передвижение коней поезжан сравнивается с полетом птиц: « Наши кони фыркали-храпели, / С горы нá гору как птицы летели » (ФК: 1358-8, Вилегодский р-н Архангельской обл., 1959).
Качественные характеристики пространства, в которое попадает свадебный поезд, — мрачность, беспросветность, труднопроходимость, непроницаемость, топкость, зыбкость, вязкость, безжизненность, необозримость, бесконечность, удаленность — подчеркиваются с помощью эпитетов темный, дремучий, сухой (для элементов «лесной» группы: лес, бор, волок), зыбучий, топучий (для элементов «водной» и «болотной» групп: море, ручей, озеро, болото), широкий (дорога, раздолье, дол, поле), длинный, долгий, далекий (деревня, волок, мост). Эпитеты крутой (гора, берег, яр), высокий (гора), глубокий (море, ручей, озеро) поддерживают идею чередования спусков и подъемов, причем часто спуски связаны с обрывом, пропастью (актуализируется в сочетаниях «крутые берега», «крутые яры», «горы-долы» и др.). Колористические характеристики черный, темный, синий имплицитно поддерживают идею чужести, опасности, иномирности окружающего поезд пространства, поскольку эти цветообозначения в народной культуре связаны с проявлением потустороннего, демонического, нечистого. Крестьянские поселения, должные характеризовать местность как заселенную, обжитую, не имеют «имени»; в текстах они употребляются вместе с теми ландшафтными объектами, которые относятся к неосвоенному человеком пространству, страшному, опасному и нечистому.
Интерес представляют манифестации, которые строятся при сочетании универсальной константы пути-дороги и ло-кальных/региональных описаний. Так, длительность путешествия подчеркивается благодаря включению развернутых изображений отдельных пространственных элементов. Таков, например, образ «долгого волока», длина которого измеряется количеством деревьев (« волок долог, 77 елок », « волок-от не долог: 77 елок, 77 берез ») или верст (менее популярная версия: « волок в семьдесят верст долог »)10. Проезд по «долгому волоку» связан с потерей и получением свадебщиками ущерба — поезжане теряют «шапки да махалки», сватья жениха падает с «санок строченых» и приобретает увечье:
« Ваш волок
Показался нам долог, Нырки да извалки Растеряли шапки да махалки.
У свахоньки ямщичек, Сколь был не аккуратен И всем натурален, Его лошади под гору нудились И свахоньку извалили. Свахонька извалилась,
Правой ручкой за санки схватилась,
Всю гороньку тащилась, Ножку слощила »
( Суслов : 2, Малмыжский у. Вятской губ.) 11 .
Элементы растительной группы отмечены в текстах отдельных локальных традиций: зелено-кудряво древо, кипарис, огромный дуб — в записях вологодской территории; ракитовые кусты — преимущественно в приговорах разных уездов Костромского края ( Андроников , 1905 : 58; Виноградов : 96, 105, 108; Дементьев : 105; Киреевский : 78, 80), редко — Пермской ( Аргентов , 1925 : 17, Оханский у.) и Архангельской губ. ( Ефименко : 83, 86, Пинежский у.). Т. А. Агапкина, рассматривая символику деревьев рода Salix (вербы, ивы, ракиты), отмечает, что в целом в традиционной культуре концепт вербы представлен разнонаправленными и противоречащими друг другу значениями [Агапкина, 2014: 297]. В частности, говоря об устойчивой связи вербы с водой, она приводит мнение Л. Раденковича о вербе как «дереве-медиаторе, дереве, растущем на границе "того" и "этого" миров» ([Раденковић: 205]; цит. по: [Агапкина, 2014: 295]). В нашем тексте поезжане теряют в ракитовых кустах нательные кресты, а крест является «одним из средств актуализации символов "дома"», оберегом, к защитной силе которого «путник обращался в ситуации встречи или опасности» [Щепанская: 229]. Другими словами, потеря крестов интерпретируется как потеря защиты «своего» дома:
« Свахонька,
Вот мы ехали чистым полям, Зеленым лугам, Ракитовым кустам;
Ракитовы кусты задевали — С нас кресты поскидовали » ( РСП : 162 – 163, г аличский у. к остромской губ., 1929).
Идея опасности усиливается за счет включения в описание пространства образов животного мира — это единичные, но весьма показательные примеры. Так, в записи из Вилегодского района Архангельской области заблудившийся в темном лесу свадебный поезд попадает в медвежье логово: « Ехали по полям, по лугам, / По зеленым лугам, / Заехали в темной лес, / В медвежье логово, / Дорогу потерели » (ИЯЛИ: 1703-48, Вилегодский р-н Архангельской обл., 1996). С другой стороны, встреча с медведем может трактоваться как предвестник удачного завершения поездки: А. В. Гура со ссылкой на сборник «Пословицы русского народа» В. И. Даля отмечает, что у русских случайная встреча с медведем в дороге служит добрым предзнаменованием и сулит путнику удачу [Гура: 171]12. В записи из Костромской губернии тема опасности усиливается с помощью образа «зверья», нападающего на поезд, от которого поезжане защищаются тарелочками (необходимыми ритуальными предметами — на них преподносят невесте подарки от жениха):
« Ехали мы темными лесами, Зелеными лугами, Чистыми полями, Ракитовыми кустами, Буйны ветры раздували, На нас зверье тут нападали, Мы все стрелочки, Все торелочки
В них пораскидали »
( Виноградов : 108, Костромской у.)13.
«Золотые тарелочки» поезжане также разбивают в дороге, проезжая по длинным (вар.: калиновым ) мостам : « Мы ехали по длинным мостам, / Моста подломились, / И тарелочки разбились » (ИЯЛИ: 1704-107, Вилегодский р-н Архангельской обл., 1996)14.
Посредством включения образа «черных вранов» с указанием поведенческих характеристик этих птиц подчеркивается идея враждебности окружающей природы: « У меня есть в чис том поле, в широком раздолье, стоит там храбрый поезд под красным сукном, под белым полотном. Черные враны летают, хочут мой поезд расклевать » ( Иорданский : 109, Ветлужский у. Костромской губ.). Негативная семантика углубляется за счет ассоциативной связи образа черного ворона со смертью и миром мертвых; в народных представлениях ворон — зловещая птица, отличается хищностью, кровожадностью, склонностью к кровопролитию, разбою и краже [Гура: 530–542].
Объекты ландшафта, которые проезжает свадебный поезд, не имеют имен и названий, окружающее поезжан пространство безымянно. В этом контексте представляют интерес единичные включения в описание пути-дороги реальных топонимов и гидронимов ( река Молога , Нева-река , город Иерусалим ). Предполагаем, что гидроним река Молога в тексте из д. Нелидово Гридинской волости Костромской губернии усиливает мифологическую составляющую повествования, хотя река Молога протекает в том числе и по пограничной с Костромским краем территории15. Допускаем, что появление этого гидро нима обусловл ено также рифмой (дорóгой — Мологой):
«Сватушки и свахоньки, Все гости приезжие!
Вы ехали путем-дорогой, Рекой Мологой, чистым полям, Зеленым лугам, под черным облакам, Под мелким звездам, Под светлым месяцем»
( РСП : 487, Костромской у. Костромской губ., 1903).
В записи 1899 г. из Макарьевского у. Нижегородской губ. дружка, озвучивая «отчет о своей поездке» родителям жениха, рассказывает о том, как поезжане, посланные за «красной девицей», приехали к Неве-реке, на которой «нет ни перевозу, ни моста — стоит одна горькая осина», срубили «горькую осину», из нее сделали «легку лодочку» и «красныя весёлки» и поплыли по Неве-реке. Сломав «красныя весёлки», причалили к бережку, в теремочке обнаружили сидевшую у окна «красну девочку», угостились у нее хлебом-солью и поехали в город Ерусалим, где «красну деви́ цу сделали молодой молодицой» (РСП: 411–412). Редкий сюжет, в котором обыгрываются главные темы свадебных приговоров: «дальняя дорога за невестой — дорога в иной мир» с образом водной переправы16, «поиск невесты» с образом «сидящей у окна девушки»17. В этом приговоре Нева-река — не реальный гидрологический объект18, а локус «иного» мира, чужого мифологического водного пространства, по которому поезжане добираются до невесты. Обращает на себя внимание средство достижения конечного пункта путешествия — «легка лодочка», сделанная из «горькой осины» — с утилитарной точки зрения дерева бесполезного, не годного для строительства, поскольку обладает мягкой и слабой древесиной [Агапкина, 2019: 228]. В восточнославянском фольклоре осина «отягощена большим количеством негативных ассоциаций», в числе которых «неудачное замужество, женское одиночество и бесправие» [Агапкина, 2019: 241, 257]. Предметы, сделанные из осины, «получают негативную оценку по причине их низкого качества»: в частности, в русских свадебных причитаниях осиновая утварь предназначается сватам [Агапкина, 2019: 251–252], обвившаяся вокруг осины алая лента невесты — «девья красота» — предсказывает девушке горькое замужество [Колпакова: 258], осина символизирует чужой мир жениха и его семьи [Агапкина, 2019: 254], вероятно, благодаря причитаниям горькая осина «проникает» в свадебный приговор.
Агиотопоним Иерусалим упоминается в связи с невестой и, как нам думается, в приговоре используется как эквивалент церкви, мыслится как сакральное место, в котором происходит символическая инициация просватанной девушки: «… И поехали мы в город Ерусалим. / В городе Ерусалиме эту красну дев и́ цу / Сделали молодой молодицой » ( РСП : 412, Макарьевский у. Нижегородской губ., 1899). Отметим, что в этом фрагменте просватанная девушка «проживает» несколько стадий: красная девочка — красна дев и́ ца — молодая молодица .
В поэтических текстах путешествие свадебного поезда прерывает какое-то событие: как правило, это встреча поезжан с особым персонажем, который указывает верное направление (куница или куний след=невеста19; чудесные помощники — Николай Угодник или «два старика седатых, два белобородатых» (РСП: 125, Вельский у. Вологодской губ., 1923), или «гуси, лебеди и серые утки», «сидящие на белом озере» (Ордин: 89, Сольвычегодский у. Вологодской губ.)). Так, в текстах севернорусской территории (вологодско-архангельская, редко — пермская, олонецкая) получил разработку мотив «погоня по куньему следу»: поезжане случайно обнаруживают куний след (по другим вариантам: специально его ищут) и, следуя по нему или за куницей, находят дом невесты (см.: [Крашенинникова, 2003: 30–32, карта 4.2]). Сюжет встречи поезжан в дороге с чудесным помощником мы рассматривали ранее [Крашенинникова, 2023: 49–51]. В числе редких отметим текст с мотивом выбора пути, который по вербальной манифестации близок к былинным и сказочным: «На силу пробрались по черным тропам, по темным лесам, по грязным болотам. Выехали в чисто поле по той дороге, как нам разсказали, у молодого князя наказали: вправо отвернешь — в сыр бор уйдешь, а влево повернешь — ни пути, ни дороги там нет. Поезжайте прямо, дом княгини издали видать!» (РСП: 277, Череповецкий у. Новгородской губ., 1899).
В единичных вологодских, вятских, пермских записях обыгрываются прескрипции, предписывающие опасаться встречи в дороге свадебного поезда с животными и людьми, способными расстроить свадьбу или испортить молодых, а также с другим свадебным кортежем или иным транспортным средством. Так, сольвычегодский дружка перед выездом корректировал свое поведение в дороге, спрашивая:
«Кто на стричу попадет Или брак с браком съедется, Как прикажете поступить: В сторону ехать
Или полудороги давать?»
На этот вопрос он получал инструкцию от присутствующих: « Если брак с браком съедется, то полдороги давать, а простому в тыл подавать » ( Ордин : 85, Сольвычегодский у. Вологодской губ.). Перед выездом за невестой пермским дружкам рекомендовали при встрече в дороге « ни от ково не отворачивать » ( Аргентов , 1940 : 176, Оханский у. Пермской губ.), « стришнова-поперешнова в сторону сбивать » ( Гладких : 58, Красноуфимский у. Пермской губ.), вятским — встречных « по шее колотить » ( Тронин : 231, Нолинский у. Вятской губ.). Такое агрессивное поведение и неуступчивость свадебщиков объясняется представлениями о свадебном поезде как о «почтенном, священном», которому «даж е Царь уступает дорогу»20.
Запрет, касающийся встречи новобрачных с животными или людьми, способными причинить вред, получает поэтическое воплощение в редкой записи 1920-х гг. из Шадринского у. Пермской губ. Перед выездом за невестой дружка просит благословения у присутствующих и включает в приговор за-клинательный элемент: «… Чтобы вражья сила не видела, чтобы глаз лихой не изурочил, чтобы заес долгоухой, чтобы с ведрами молодиса, со чулком красна девиса, с троснисой старая старуха, со славлеными просвирня, со крестом поп долговолосой, по < нрзб .> ник 21 неуемный, зеленоглазая черна кошка дорогу не перешли » ( РСП : 373, Шадринский у. Пермской губ., 1920-е гг.). В цитированном выше фрагменте перечислены представители человеческого и животного мира («заяц долгоухий», «с ведрами молодица», «с тростницей старая старуха», «с крестом поп долговолосый», «зеленоглазая черная кошка»), встреча с которыми в народных представлениях сулила несчастье, неудачу, являлась плохим предзнаменованием22.
Нахождение в пространстве дороги связано с определенным риском и опасностью для поезжан и представлено как испытание; в поэтических текстах, как правило, это получение ущерба здоровью и, как следствие, ухудшение физического состояния23. В приговорах реализуется тема замерзания дружки в дороге, у него «пересохло горлышко», «приспотело тело», «замерз язык», [дружку] «Буйным ветром поддувало, / Меня морозом подтыкало. / Глаза слипались, / Губы смерзались» (Ордин: 90, Сольвычегодский у. Вологодской губ.); все поезжане проходят через лишения: «Мы ехали, сватушко, путем-дорогою, приняли голоду и холоду, стужи и морозу, тепла и жары; <…> в одном горлышке засохло, в другом-то замерзло» (РСП: 130, Нерехтский у. Костромской губ., 1853), «мы в дороге перезябли, передрогли, переиндевели» (РСП: 240, Кинешемский у. Костромской губ., 1853); «С холоду позябают, / С голоду помирают, / Буйным ветром задувает, / Красным солнышком запекает» (РСП: 404, Макарьевский у. Нижегородской губ., 1899). Описывая состояние оставшихся в дороге поезжан, дружка включает в приговор обращение к отцу невесты с просьбой о защите: «Не спокиньте нас в поле / На Божью волю (вар.: на Божей воле) / И не заморозьте на чужой стороне» (Виноградов: 105, Костромской у. Костромской губ.). В единичных записях отмечена тема получения материального ущерба (у дружки рвется одежда): «Ехал я сюда водой и горой, / Лесом-парусом, / Стал я сюда поближе подъижать, / Стало у моего с коня шерсть драть, / А у меня одежу рвать» (Бахтина: 122, Повенецкий у. Олонецкой губ., 1926).
Жениха и поезжан, находящихся в поле и ожидающих приглашения в дом невесты, дружка «ограждает» с помощью элементов космоса — эти описания содержательно отсылают к заговорному мотиву «чудесного одевания» с формулой «ограждения космическими реалиями» в характерной для нее манифестации: князь «огородился белым светом», «покрылся (вар.: прикрылся) небом», «подмостился землей», «подпоясался вечерней зарей», «обтыкался частыми звездами», «опоясался месяцем». Защищающее значение наряду с космическими элементами приобретают исключительно мужские предметы — ружья, стрелы: «[Князь оставлен] Под светлым месяцом, / Под частым звездочкам, / Ружьями обвешался, / Стрелами обтыкался…» (Андроников, 1856: 164, Костромской у. Костромской губ.). Идея замыкания пространства вокруг свадебного поезда воплощается с помощью тавтологических сочетаний «звездами озвяздиться», «шатрами ошатриться», а эпитеты «красный», «белый» в сочетании «[поезд стоит] под красным сукном, под белым полотном» отсылают к элементам заговорной формулы «ограждения» («красное солнце», «белый свет») (подробнее о реализации мотива «чудесного одевания» в свадебных приговорах см.: [Крашенинникова, 2009: 30–32]). В сибирских записях конца XX в. мотив ограждения жениха только угадывается (жених стоит под белой березой), на первый план выступает идея сообщить о приезде жениха и серьезности его намерений:
« А наш князь молодой остался в чистом поле, Широком раздолье.
Стоит он на вороных конях, на шелковых коврах, Под белой березой.
Бьет он гусей-лебедей и серых уток, Себе кушанье на обед пасет.
А вы, сват и сватушка, на наш обед не надейтесь, У Бога милости просите, да свой припасите » ( Русский фольклор Сибири : 59, Первомайский р-н Алтайского края, 1989).
Несколько слов об элементе «чистое поле»: в нем пребывает ожидающий приглашения рода невесты жених; в нем происходит выбор направления движения поезда (см. выше текст из Череповецкого у. Новгородской губ.) или случается знаковая встреча поезжан24; наконец, в чистом поле стоит дом невесты25. Т. Б. Щепанская, опираясь на наблюдения В. В. Колесова, пишет, что поле — это «полое, пустое пространство; чистое — тоже пустое, никем не занятое, не имеющее хозяина», заключая, что сочетание «чистое поле» — это признак «семиотической невидимости дороги» [Щепанская: 33, 34]. То есть в приговорах чистое поле — это один из элементов пути-дороги — опасного, страшного, чужого пространства, и это подтверждается поэтическими текстами. Такая трактовка расходится с интерпретацией этнографических описаний обряда: в частности, А. К. Байбурин, рассматривая перемещения участников свадьбы, отмечает, что поле, в которое выезжает поезд за границу своей деревни, представляет собой «нейтральную зону» [Байбурин, 1993: 76], где и жених, и невеста оставляют предметы, взятые из родительского дома или связывающие их с прежней, холостой, жизнью.
Дом невесты также воспринимается поезжанами как часть чужого пространства — дом имеет гиперболизированные размеры и находится на крутой (=отвесной, обрывистой) горе ( « Доехали до крутой горы , / На той крутой горе / Стоит дом как терем , / Изба как город » (ИЯЛИ: 1706-82, Вилегодский р-н Архангельской обл., 1996) ) , незнаком поезжанам и неузнаваем ими ( « Стоит деревня как город, / Дом как терем , / Мы не сами узнали , / Нам люди сказали » (СПб РАН. Ф. 104. Оп. 1. Ед. хр. 89. Л. 87 об., Вологодская губ., 1891) ) , что провоцирует появление в речи дружки уточняющих вопросов:
«Ехали-попоехали,
До того места доехали.
Спрашивают: Та ли деревня, Да та ли губерня, Тот ли город, Да тот ли терем, Да в том ли городу, Да в том ли терему Молодая кнезина живет?»
(ИЯЛИ: 1705-41а,
Вилегодский р-н Архангельской обл., 1996).
Таким образом, в приговорах описание пути-дороги свадебного поезда является одним из сюжетообразующих, детально разработанных фрагментов, репрезентирующих традиционные представления. В содержании текстов отражено восприятие дороги как локуса опасного, страшного, нечистого, закреплены представления об особенностях дорожного поведения участников свадьбы. Путь-дорога свадебного поезда трактуется приговорами как путешествие в иной мир. Как правило, описание дороги строится при сочетании формулы движения и ландшафтных объектов, которые распределяются на несколько семантико-тематических групп (лесная, горная, болотная, водная, космологическая, группы элементов растительного и животного миров, также группы элементов со значением ‘обширное, бесконечное, необозримое пространство’ и со значением ‘населенные пункты, освоенное, обжитое пространство’). В мифопоэтических представлениях эти ландшафтные элементы, по большей части, маркируют чужое, опасное пространство; в текстах они употребляются с эпитетами, значения которых в совокупности характеризуют качество пространства, позволяют создать яркий образ окружающей природы (частотные: крутой, высокий, темный, дремучий, топучий, долгий). Значение опасного, враждебного, страшного, чужого переносится на некоторые эпитеты (чистый, тихий) и словосочетания (например, чистые поля, зеленые луга). Идея опасности усиливается за счет включения в описание элементов растительного и животного миров, придающих повествованию дополнительную выразительность и эмоциональность. Нахождение в пространстве дороги связано с опасностью для поезжан и представлено как испытание; в поэтических текстах это передается через констатацию ухудшения физического состояния, получения материального ущерба.
Путь-дорога в свадебных приговорах — образ многомерный, посредством которого характеризуется как процесс перемещения, маршрут, окружающее пространство, так и тот отрезок жизненного пути персонажей ритуала, который связан со сменой их статуса. В описаниях пути-дороги свадебного поезда соединены представления о дороге как опасном, нечистом, полном риска локусе и представления о пути как судьбе персонажей ритуала.
Список сокращений
Архивные источники :
ИЯЛИ — фольклорный фонд Института языка, литературы и истории Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения РАН».
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства.
РГО — Научный архив Русского географического общества.
СПб РАН — Архив Российской академии наук, Санкт-Петербургский филиал.
ФК — архив Фольклорной комиссии Союза композиторов Российской Федерации (ранее: Комиссия музыковедения и фольклора Союза композиторов РСФСР).
Печатные источники:
Андроников , 1856 — Андроников П. И. Свадебные обычаи и песни в селе Костенев Костромского уезда // Костромские губернские ведомости. 1856. № 24. С. 163–164.
Андроников, 1905 — Андроников В. А. Свадебные причитания Костромского края со стороны содержания и формы (Из трудов Тверского областного археологического съезда). Тверь: Тип. губерн. правления, 1905. 62 с.
Аргентов, 1925 — Аргентов Г. Наговоры дружки на свадьбе // Кунгуро-Красноуфимский край. Кунгур, 1925. № 2. С. 17–19.
Аргентов, 1940 — Аргентов Г. Наговоры дружки // Уральский современник: литерат.-худож. альманах. Свердловск, 1940. № 3. С. 176–178.
Афанасьев — Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: в 5 т. Алма-Ата: Шарапат, 1992. Т. 5. 160 с.
Бахтина — Неизданные материалы экспедиции Б. М. и Ю. М. Соколовых. 1926–1928. По следам Рыбникова и Гильфердинга: в 2 т. М.: ИМЛИ РАН, 2011. Т. 2: Народная драма. Свадебная поэзия. Необрядовая лирика. Частушки. Сказки и несказочная проза. Творчество крестьян / вступ. ст., подгот. текстов, науч. коммент., приложений, справоч. аппарата В. А. Бахтиной. 768 с.
Былины — Былины / сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. Ф. М. Селиванова. М.: Сов. Россия, 1988. 576 с. (Сер.: Б-ка рус. фольклора; т. 1.)
Виноградов — Виноградов Н. Н. Народная свадьба в Костромском уезде // Этнографический сборник. Кострома: Тип. Риттер, 1917. С. 71–152. (Сер.: Труды Костромского научного общества по изучению местного края; вып. 8.)
Гладких — Гладких А. Н. Крестьянские свадебные обряды и проч. у жителей села Торговижского, Красноуфимского уезда, Пермской губернии // Труды Пермской губернской ученой архивной комиссии. Пермь: Электротип. «Труд», 1913. Вып. X. С. 1–76.
Даль, 1989 — Даль В. И. Пословицы русского народа: в 2 т. М.: Худож. лит., 1989.
Даль, 1995 — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: ТЕРРА, 1995.
Дементьев — Дементьев В. Деревенские свадьбы в Кологривском уезде Костромской губернии (отрывок из путевых заметок) // Москвитянин. 1855. № 7. С. 65–134.
Ефименко — Свадебные обряды // Труды Этнографического отдела Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете. М.: Тип. Ф. Б. Миллера, 1877. Кн. 5. Вып. 1: Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии, собранные П. С. Ефименком. Ч. 1: Описание внешнего и внутреннего быта. С. 74–132. (Сер.: Известия Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии; т. 30.)
Ефремова — Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толковословообразовательный: св. 136 000 словар. ст., ок. 250 000 семант. единиц: [в 2 т.]. 2-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 2001. Т. 1: А — О (1232 с.); Т. 2: П — Я (1088 с.). (Сер.: Б-ка словарей рус. яз.)
Золотова, Иванова, Шестакова — Золотова Т. А., Иванова А. А., Шестакова И. Н. Вятская свадьба. Йошкар-Ола: Марийск. гос. ун-т, 2001. 95 с.
Иорданский — Иорданский Н. Свадьба в Ветлужском крае // Этнографическое обозрение. 1896. Кн. 31. № 4. С. 107–112.
Киреевский — Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия. М.: О-во любителей рос. словесности при Моск. ун-те, 1911. Вып. 1: Песни обрядовые. 356 с.
Колобов — Колобов И. В. Русская свадьба Олонецкой губернии, Пудожского уезда, Корбозерской волости // Живая старина. Пг.: Тип. В. Д. Смирнова, 1915. Вып. 1–2. 1 С. 21–90.
Ожегов — Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. 18-е изд., стереотип. М.: Русский язык, 1987. 797 с.
Ордин — Ордин Н. Г. Свадьба в подгородних волостях Сольвычегодско-го уезда // Живая старина. СПб., 1896. Вып. I. С. 51–121.
Подвысоцкий — Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении / собрал на месте и сост. А. Под-высоцкий. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1885. 198 с.
РСП — Русские свадебные приговоры в архивных коллекциях XIX — первой трети XX в. / сост., вступ. ст., подгот. текстов, коммент. Ю. А. Крашенинниковой. М.: Индрик, 2021. 712 с. (Сер.: Традиционная духовная культура славян.)
Русский фольклор Сибири — Русский семейно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока: Свадебная поэзия. Похоронная причеть / сост. Р. П. Потанина, Н. В. Леонова, Л. Е. Фетисова. Новосибирск: Наука, 2002. 551 с. (Сер.: Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; т. 22.)
СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 1–26. Л., 1968–1991; Вып. 27–51. СПб., 1992–2019.
Суслов — Суслов И. Из свадебных обрядов Малмыжского уезда // Приложение к Вятским губернским ведомостям. 1901. № 33. С. 1–3.
Тронин — Тронин П. Шестой земский участок Нолинского уезда // Календарь и памятная книжка Вятской губернии на 1896 год. Вятка: Губерн. тип., 1895. С. 214–243.
Ушаков — Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. проф. Д. Н. Ушакова. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1939. Т. 3. 1424 стлб.