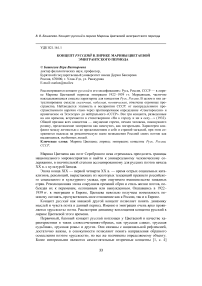Концепт русский в лирике Марины Цветаевой эмигрантского периода
Автор: Башкеева Вера Викторовна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Концепты в литературе
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается концепт русский в его модификациях: Русь, Россия, СССР - в лирике Марины Цветаевой периода эмиграции 1922-1939 гг. Мерцающие, частично накладывающиеся смыслы характерны для концептов Русь, Россия. В целом в них актуализированы смыслы сказочная, небесная, поэтическая, отмечены огромные пространства. Наблюдается этапность в восприятии СССР: от неопределенного пространственного наречия «там» через противоречивое определение «Советороссии» и ироническое «в Эсэсэсэре» до нейтрального «СССР». Все три концепта, разведенные на оси времени, встречаются в стихотворении «Ни к городу и ни к селу.» (1932). Общий признак всех концептов - ощущение горечи, печали человека, покинувшего родину, представление эмигрантов как невезучих, как погорельцев. Характерен конфликт между личностью с ее представлением о себе и страной-загадкой, при этом сохраняется надежда на романтическую идею возвышения Россией своих поэтов как выдающихся, особенных людей.
Марина цветаева, лирика, эмиграция, концепты русь, Россия, ссср
Короткий адрес: https://sciup.org/148316597
IDR: 148316597 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Концепт русский в лирике Марины Цветаевой эмигрантского периода
Марина Цветаева как поэт Серебряного века стремилась преодолеть границы национального мировосприятия и выйти к универсальному человеческому содержанию, в значительной степени ассоциированному для русских поэтов начала ХХ в. с культурой Запада.
Эпоха конца XIX — первой четверти XX в. — время острых социальных катаклизмов, революций, вырастающих из некоторых тенденций прежнего российского социального и культурного уклада, при ощутимом вмешательстве западных стран. Революционная эпоха сокрушила прежний образ и стиль жизни поэтов, побуждая их к переменам, осознанным или вынужденным. Оказавшись в 1922– 1939 гг. в эмиграции в Европе, Цветаева невольно получила возможность по-новому осознать, прочувствовать свое отношение как к России, так и к Европе.
Концепт русский как никакой другой концепт позволяет понять динамику мыслей и чувств поэта в данный период. Именно в эмиграции очень ярко проявляется «русскость» поэта. Рассмотрим динамику воплощения концепта русский в лирике Цветаевой этого времени.
Первичный, базовый концепт русский воплощен у Цветаевой в качестве характеристики в таких словосочетаниях-образах, как «русская слава», «русская судьбина», «русская рожь» и других. Они связаны с национальной рефлексией, достаточно важны, в совокупности позволяют понять направления образного осмысления поэтом «русскости», но все же подчинены определяемому объекту. Более интересными являются самостоятельные вторичные концепты [1, с. 4]
Русь, Россия, СССР , динамика взаимоотношений которых поможет понять самосознание поэта.
В период до эмиграции для Цветаевой как поэта-романтика важна была поэтизация концепта Русь . Условно представительствующий за идеализированную историю страны, этот концепт был воплощением привязанности к патриархальной старине: «Цела еще / В серд-цах Русь!», а более всего был воплощением страстности, силы эмоций: «Жива еще/ Мать — Страсть — Русь!» («Новогодняя», 15 янв. 1922 г.). О пути в «сновиденную Русь» пишет она в этом же году («Небо катило сугробы…», 23 февр. 1922 г.).
Эмиграция сразу поставила Цветаеву перед лицом реальности. Концепты Русь, Россия начинают существовать параллельно, в зависимости от переживаемого этапа изменяется их смысл. В Берлине через пять месяцев после начала эмиграции она пишет «Рассвет на рельсах» (12 окт. 1922 г.), в котором ощутима сильная тоска по родине, по своей России: «Из сырости и шпал Россию восстанавливаю».
И хотя Цветаева восстанавливает страну из негативно окрашенных составляющих — сырости, серости, сирости, свай и стай, важен сам процесс восстановления, ведь без России, пусть и невеселой, негостеприимной, — невозможно. Есть в этом горечь, тоска, которые неотделимы от концепта русский . Страдания ее, начиная с первых дней эмиграции, постоянны: «Дожди за моим окном, / Беды и блажи на сердце” («Рассвет на рельсах»). Есть в этом и обида, ведь она видит эмигрантов «пропавшими навек» «погорельцами». Не случайно чуть позже она осмыслит феномен эмигрантства, эмигрантов как заблудившихся, лишних, но и — с вызовом! — как не отвыкших от выси («Эмигрант», 9 февр. 1923 г.).
Другая особенность концепта связана с ощущением пространств страны, ее размаха, простора и одновременно особой материально-духовной составляющей: «Владением бесплотнейшим Какая разлилась Россия — в три полотнища! Может быть, это то, по чему она и далее будет томиться».
Своеобразного апогея на этом этапе достигают тоска по родине и неприятие «проклятой действительности» в образе поезда, который вынужден уехать от «родимых сел». Цветаева желает, чтобы поезд никуда не приехал, ведь отъехал он от родных мест по великой необходимости, и хорошо бы, застыл в вечном движении в никуда: «Чтобы поезд шел, шел, / Чтоб нигде не останавливался, / Никуда не приходил» («От родимых сёл, сёл…», конец мая 1925 г.).
1926 г. интересен тем, что концепт Русь начинает противопоставляться концепту СССР , пока еще не названному. В стихотворении «Кто — мы? Потонул в медведях…» (апрель 1926 г.) заметно стремление возвеличить свое поколение, гибнущее в чужих землях от тоски и отчаяния: «И сейчас уже Шарантоны / Не вмещают российских тоск». Между тем это «невезучее» поколение достойно внимания и возвышения: это офицеры, князья, эмигранты, именно они воевали за Русь, спасали ее: «Всю Русь в наведённых дулах / Несли на плечах сутулых». Заслугой их является и то, что они прославили, воспели сказочную Русь: «Это мы пустили славу: — Хороша! хороша — Русь!».
Противопоставленная сторона не называется, следует почти апофатическое молчание [8]. Руси противопоставлено Там, в наречном именовании которого ощутимы неприятие СССР и одновременно сакрализация пространства, трепет, вызов, бросаемый новой реальности. Складывается картина, когда современное поэту и близкое ей по духу и социальной принадлежности поколение оказывается связано с уходящей реальностью Руси.
Через месяц в стихотворении «С моря» (май 1926 г.) страна будет названа Со-ветороссией. Появившееся имя представлено субстанциально противоречиво, и это характерно для Цветаевой, у которой «развеянные звенья причинности» и есть основа связи поэтических смыслов» [6, с. 57]. С одной стороны, Цветаева комплиментарна, как будто преклоняется и даже заискивает: Москву роднит с морем, Советороссию — с Океаном. С другой стороны, желает властвовать над этим океаном. Ее не устраивают внешние формы советской власти, она хочет упразднить красную звезду и дарит «морей звезду», которая приведет к краху корабля по имени Россия.
И другой, привычный уже мотив, связанный с родиной, — печаль, слезы и одновременно — желание их скрыть, сохранение позы силы и гордости.
Идеализация Руси приобретает новые черты в стихотворении «Новогоднее» (7 февр. 1927 г.). Русь интерпретируется как тот свет, как квинтэссенция жизни. Незаметно концепт, связанный с Русью как прошедшим началом, начинает сливаться с пониманием настоящей России. Временные и пространственные параметры начинают сливаться. «…Связь кровная у нас с тем светом: / На Руси бывал — тoт свет на этом / Зрел».
Той страны нет, но живет надежда, что Россия все же превозносит своих поэтов, что поэты лучше и выше всех насельников страны. Возвеличивание поэтического творчества, поэта как вестника богов, как особой, отмеченной судьбой личности — этот романтический подход весьма характерен для Цветаевой. Частично данная идея прослеживается в стихотворении, адресованном В. Маяковскому, в котором от именования «Рассея-матушка» она вынужденно переходит к ироничному именованию «Эсэсэсер»: «А что на Paccee — / На матушке? — То есть /Где? — В Эсэсэсере / Что нового? — Строят» («Советским вельможей», авг. 1930 г.).
В начале 1930-х гг., наиболее последовательно в 1931 г., Цветаева, размышляя о первом русском поэте Пушкине, не только продолжает развивать романтический миф о поэте, но и утверждается в самоприятии себя как поэта, а значит — как лучшего, достойного, по-своему высшего существа. Быть может, «уход в мир поэзии, равнозначный уходу в иной, высший мир, был для Марины Цветаевой, «беспощадной в своей внешней самооценке», возможностью сбыться «по образу своей души» [3, с. 156]. В любом случае, имя и судьба Пушкина становятся формой осмысления своей собственной судьбы.
Цветаева пишет о «пушкинском бунте», «белом бешенстве», представляя Пушкина более живым, чем живые, борясь с идеей монументализации поэта («Бич жандармов, бог студентов», 25 июня 1931 г.). Одновременно она радикализует Пушкина, показывая его вечным борцом с властью и государством. Идет вслед за расхожим мифом и называет Николая Первого «певцоубийцей» («Потусторонним…», 12 июля 1931 г.). Между тем вспомним, Пушкин в своем поступательном развитии отошел от юношеского западнического радикализма и противопоставления себя целому русской жизни и судьбы.
И как результат поэтических бдений о Пушкине скрытая надежда, не являюсь ли я как поэт все же нужной своей стране, Руси, этой вечной исторической субстанции, этой вечной земле: «А быть или нет / Стихам на Руси — / Потоки спроси, / Потомков спроси («Не нужен твой стих...», 14 сент. 1931 г.).
Чуть ранее написано сильное в своем прозрении и отчаянии стихотворение «Страна» (конец июня 1931 г.). Цветаева как будто окончательно прощается с идеей Руси и говорит о «той России». Она включает в себя и сказочную Русь с ее «небесными царствами», и великую пространствами, «несчетными верстами» Россию, и, немаловажно, ушедшую молодость Цветаевой: «С фонарем обшарьте / Весь подлунный свет! / Той страны на карте — / Нет, в пространстве — нет». Причем страна не просто исчезла, перед исчезновением она сурово поступила со своими чадами, сбросив их почти что в пропасть.
Отчаянная констатация исчезновения страны, конечно, не означает покоя ума и души — сердце поэта продолжает болеть. Приблизительно в это же время сквозь морок жизни в буржуазном, «вашем» Париже видится ей прекрасная далекая родина: «Россия моя, Россия, / Зачем так ярко горишь?» («Лучина», июнь 1931 г.).
Понимание буржуазной сути европейской культуры и иной природы России ясно осознано Цветаевой в статье «Поэт и время» (янв. 1932 г.), в которой противопоставлены русские «множества» — европейским «группам», «арены и трибуны» — «зальцам», «этическое событие выступления» — «литературным вечерам»: «Не тот масштаб, не тот ответ». И горькая констатация, что «вся Россия» осталась там, а здесь только воспоминание о прошлой России [2].
По-настоящему страной поэтов и мыслителей является только Россия. Она становится для Цветаевой «пределом земной понимаемости», за которым уже нет земли, там «не-земля», небеса, космос, запредельность. И чудная цитата из Рильке: «Есть такая страна — Бог, Россия граничит с ней» [7]. Через два года «Господней страной» назовет Россию Цветаева («В стране, которая одна...», 23 окт. 1934 г.). Небесная, поэтическая суть России резко отделяет ее от всего буржуазного, непоэтического мира.
В 1932 г., по словам исследователя, «Россия станет главной аксиологической доминантой художественного сознания Цветаевой» [9]. Мифологизация страны продолжается в «Стихах к сыну» («Ни к городу и ни к селу...», янв. 1932 г.), где впервые Цветаева — не очень желая, противоречиво — связывает страну с будущим. Формально она не признает СССР синонимом понятия «своя страна», страна сына, но фактически делает это. Все три концепта наконец сошлись здесь: «Русь — прадедам, / Россия — нам, / Вам — просветители пещер — / Призывное: СССР».
Признание поколенческой разницы, когда у детей нет будущего без своей страны, без своего дома, побуждает Цветаеву признать, что СССР — «в на-Марс» страна, страна будущего. Горечь в том, что страна настоящего, страна масс — страна «без-нас», без поколения эмигрантов.
В знаменитом стихотворении «Родина» (12 мая 1932 г.) метафизическая суть России воспринята и осмыслена Цветаевой достаточно ясно. Прийти к признанию России как родины для Цветаевой — шаг мужества. С одной стороны, она признает за народом («мужиком») поэтическое, т.е. божественное право петь:
«Россия, родина моя!», с другой — сама-то поет: «Чужбина, родина моя!». Загадка понимания страны мучила ее и до эмиграции, ведь и «с калужского холма» страна открывалась как даль, как тридевятая земля.
Здесь, как и в большинстве стихотворений Цветаевой о России, ощутим внутренний конфликт между личностью и страной. Соединить понятия «Россия» и «родина» в единое целое необыкновенно трудно для нее, ведь в ней по-прежнему клокочет боль от разъединенности с родиной-домом при признании родины как «рока», как места роковых конфликтов — «распрь моих земля». При этом «рок всегда выступает как чуждая сила, которая… оказывается агрессивно настроенной по отношению к героине» [5].
Цветаева осознает невозможность отделить свою жизнь и судьбу от России, но не хочет или не может признать это, ведь родина соотносится не только с чужбиной, но и с гордыней: «Гордыня, родина моя!». Таким образом, в концепте Россия два нестыкующихся, борющихся между собой смысла: признание вечности родины в своей душе и судьбе и — желание отдалить ее от себя, утверждение гордыни как качества личности.
Принцип противоборства, перерастающий в ментальное противоречие, создающее нерв стиха, не оставляет ее. Теперь она борется «криком» [4, с. 64] с мыслью о наличии ностальгии: «Тоска по родине! / Давно/ Разоблаченная морока!» («Тоска по родине», 3 мая 1934 г.).
Ощущение выбитости из жизни, вытесненности, униженности, непонимаемо-сти, превращения в пустоту («Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст…») — острое в условиях западного буржуазного мира («доильцы сплетен»)! — ведет к выставлению горького счета родине: «Так край меня не уберег/ Мой…».
И по-своему завершающее нашу тему произведение «Двух станов не боец, а — если гость случайный» (25 окт. 1935 г.) она напишет в середине 1930-х гг., и в нем выведет себя из повседневности, из истории, а значит, и из политики, в пространство поэзии, «лиры», в пространство Пушкина. Опираясь на идею А.К. Толстого «двух станов не боец», М. Цветаева откажется и от Домостроя (Руси), и от Днепростроя (СССР). Тем самым она выводит себя и из пространства России, хочет встать над историей, над настоящим днем страны, над страной.
Это желание постулировать свою дорогу и позицию объясняется яростным неприятием идеологии не только советской страны, но вообще всякой общественной идеологии: «Вы требовали: нас — люби! тех — ненавидь!». Она жаждет тотально выйти из-под власти любой детерминированности.
Цитируя Пушкина: «Ты царь: живи один», Цветаева здесь не соглашается с ним, ведь один может быть только Бог. А поэт, он между двумя началами, которые не выбирает, так как по сути своей является «противубойцом», бойцом против всего. Выбирая такую позицию, Марина Цветаева остается в рамках романтического мифа о поэте и тем самым обрекает себя на продолжение жизненной драмы в отношениях с Россией.
Список литературы Концепт русский в лирике Марины Цветаевой эмигрантского периода
- Башкеева В. В. Изучение концептов в литературе Бурятии транзитивного периода // Концепты в литературе Бурятии транзитивного периода: коллект.монография. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2011. С. 3-9
- Гаспаров М. От поэтики быта к поэтике слова // Цветаева М. Статьи и тексты. Wien, 1992. С. 5-16.
- Горчаков Г. К источникам трагического у Марины Цветаевой // Цветаева М. Статьи и тексты. Wien. 1992. С. 147-160.
- Маслова В. А. Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой. Москва, 2004. 256 с.
- Павлова Т. Л. Конфликтосфера поэзии Марины Цветаевой: автореф. канд. филол. наук. Москва, 2013. 16 с.
- Фатеева Н. А. Поэтика противоречий Марины Цветаевой // Русский язык в школе. 2006. № 4. С. 55-61.
- Цветаева М. Поэт и время [Электронный ресурс]. URL: http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/proza/poet-i-vremya.htm (дата обращения: 22.08.2019).
- Эпштейн М. Русская культура на распутье. Секуляризация, демонизм и переход от двоичной модели к троичной [Электронный ресурс]. URL: http://www.emory.edu/ INTELNET/cr0.html (дата обращения: 22.09.2019).
- Polechina Maja. Репрезентация концепта в поэтическом творчестве Марины Цветаевой [Электронный ресурс]. URL: http: //bazhum.muzhp.pl/media//files/ Polilog_Studia_Neofilologiczne/Polilog.. (дата обращения: 22.09.2019).