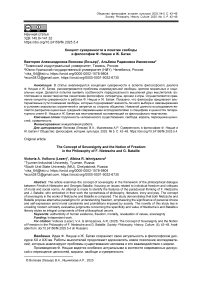Концепт суверенности и понятие свободы в философии Ф. Ницше и Ж. Батая
Автор: Волкова (Лезьер) В.А., Ишниязова А.Р.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется концепция суверенности в аспекте философского диалога Ф. Ницше и Ж. Батая, рассматриваются проблемы индивидуальной свободы, критики моральных и социальных норм. Делается попытка выявить особенности парадоксального мышления двух мыслителей, воплотивших в своем творчестве синестезию философии, литературы, иронии и игры. Осуществляется сравнение концепта суверенности в работах Ф. Ницше и Ж. Батая. Показано, что философы предлагают альтернативные пути понимания свободы, которые подчеркивают важность личного выбора и самовыражения в условиях моральных ограничений и запретов со стороны общества. Новизной данного исследования является раскрытие оценочных суждений современными исследователями о специфике и ценностях литературного стиля Ф. Ницше и Ж. Батая как неотъемлемой составляющей их философского творчества.
Подлинность человеческого существования, свобода, мораль, переоценка ценностей, суверенность
Короткий адрес: https://sciup.org/149147946
IDR: 149147946 | УДК: 140.8+141.32 | DOI: 10.24158/fik.2025.5.4
Текст научной статьи Концепт суверенности и понятие свободы в философии Ф. Ницше и Ж. Батая
Введение . Идеи Ф. Ницше и Ж. Батая сохраняют свою актуальность в философском дискурсе XX и XXI вв. Работы мыслителей продолжают вдохновлять новое поколение исследователей, которые анализируют проблемы существования человека и его взаимодействия с миром.
Произведения Ф. Ницше видятся особенно актуальными в контексте современных дискуссий о переоценке ценностей, морали, свободе и суверенности.
Как и Ф. Ницше, Ж. Батай – писатель парадоксального типа мышления и оригинальности, воплотивший в своем творчестве синестезию философии, литературы, живописи, эротики и игры. Одной из центральных тем его философии является вопрос о подлинности человеческого существования. Трансгрессия в философии Ж. Батая может быть понята как рациональный аспект, свободный от эмоциональных влияний, который позволяет индивиду осознать свои возможности и границы в творчестве и деятельности. Данный процесс служит основой для самоопределения, позволяя человеку не только отстоять свою идентичность, но и достичь свободы от ограничений жизненными обстоятельствами.
В философии Ф. Ницше и Ж. Батая концепция суверенности рассматривается во взаимосвязи с категориями индивидуальной свободы, самовыражения, игры, преодоления страха смерти. У Ф. Ницше она, по сути, связана с идеей «сверхчеловека», который создает собственные ценности, преодолевая зависимость от власти общественных и моральных норм. В работах Ж. Батая акцент делается на роли желания и сексуальности как форм выражения индивидуальной суверенности. Философ рассматривает их как мощную силу, способную разрушать социальные и культурные границы. Оба мыслителя предлагают альтернативные пути понимания свободы, которые подчеркивают важность личного выбора и самовыражения вопреки системе запретов со стороны общества.
В данной статье мы предприняли попытку показать общее и особенное в трактовке категории суверенности в контексте философского творчества Ф. Ницше и Ж. Батая.
Методологическая основа анализа включает: сравнительно-герменевтический подход, направленный на выявление смысловых пересечений и различий в философских проектах Ж. Батая и Ф. Ницше, посвященных проблеме суверенности и свободы; феноменологический подход, позволяющий осмыслить специфику пограничных феноменов человеческого существования в интерпретации указанных философов.
Мировоззренческие основания концепта суверенности и свободы Ф. Ницше . В своих работах «Генеалогия морали» (Ницше, 2024) и «По ту сторону добра и зла» (Ницше, 2019) Ф. Ницше исследует теорию «суверенного индивидуума». Концепт суверенности коррелируется у философа с понятиями становления, непрерывного изменения и, как он мыслит сам, непрерывного конфликта сил, метаморфоз. До Ф. Ницше мыслители не концептуализировали свободу посредством дефиниций «свободная воля», «свобода выбора», «отсутствие принуждения» как привычку повиноваться правилам и требованиям нравственности или социума.
Генеалогия морали, по мнению Ф. Ницше, – это метод исследования происхождения и эволюции идей, ценностей, духовных норм и социальных учреждений. Философ приглашает читателей заглянуть в глубины прошлого, чтобы понять, как изменились ценности и их роль в общественном сознании. Он рассматривает культурные влияния, историю борьбы власти, социальные конфликты и человеческие мотивации, которые сформировали мировоззрение современного общества. Так, Ф. Ницше совершает переоценку ценностей, догм традиционной морали, понятия добра и зла. Исследование знания о себе должно, по его мнению, пройти через генеалогию морали (Ницше, 2024). Христианская или кантианская мораль, которую он упоминает в предисловии к работе «Генеалогия морали», лишает нас свободы: «К счастью, я заставил рано обучать способности отделить теологическое предубеждение духовного предубеждения и не искал больше происхождения зла вне мира» (Ницше, 2024). Иначе говоря, мораль, предписывая законы, регламентирующие человеческое поведение, запрещает субъекту мыслить и действовать автономно.
Концепция свободы Ф. Ницше – это, по сути, утверждение привилегии свободного человека, которая не терпит никаких запретов, в первую очередь со стороны морали и государства. Эта свобода, провозглашенная Ф. Ницше, очевидно, является утверждением единой воли, чему препятствует торжество политического либерализма: «Одни и те же либеральные институты производят совершенно разные эффекты, пока мы боремся за их навязывание; поэтому они мощно продвигают свободу» (Ницше, 2020). Для Ф. Ницше свобода заключается в желании нести ответственность исключительно за себя, контролировать себя – без учителя, без Бога, без учеников. Вот почему, согласно идеям философа, индивидуум, желающий свободы и суверенности, должен подвергнуть себя добровольному аскетизму, серии испытаний, чтобы не стать жертвой собственной слабости или эксплуатации вещами и властью (Ницше, 2020). Чтобы вырваться из лабиринта зависимостей, в котором может угаснуть или сломаться стремление к суверенной свободе, человек должен избавиться от всех видов аддикций. Ф. Ницше предлагает новый образ мысли, основанный на стремлении освободить волю к жизни от всего, что ей препятствует, в частности, от переосмысления прошлого, которое парализует волю, фиксирует ее в плену слабости и стереотипов, вместо того чтобы открывать путь к новому. Любые желания, стремление к власти, к господству, к победе, непрочны и уязвимы, так как все действия могут завершиться крушением, поражением, аннулированием результатов победы, то есть привести к болезненному состоянию пассивного нигилизма. Свобода, о которой заявляет Ф. Ницше, суверенна, безусловна и неограниченна.
Возможно, подобное трактование свободы возникло у философа под влиянием книги М. Штирнера «Единственный и его достояние», своего рода манифеста теоретического анархизма (Штирнер, 1906: 478).
В работе о Ф. Ницше Е.А. Полякова уточняет, что свобода и суверенность в его философии не являются чем-то данным, а представляют собой постоянный процесс преодоления себя, который предполагает умение дистанцироваться от собственных чувств и мыслей, что позволяет развивать самоуважение и подниматься над собой (Полякова, 2015).
Действительно, власть или, точнее, стремление человека, желающего быть свободным, к власти предполагает, что он освобождается от сознания – этой реактивной формы, которая исходит от самой себя. Заратустра возвещает благую весть: «Тело – более могущественное существо, неизвестный мудрец, который имеет свое имя. Он живет в твоем теле, он – твое тело» (Ницше, 1990). Мышление субъекта увеличивает силу жизни. Думать – значит открывать, изобретать новые возможности для жизни; осознавать свою болезнь: помехи для развития, заточение своего тела, ограничение своей жизни; посредством обучения и посвящения возможно открыть истинное состояние суверенитета, настоящей свободы.
Таким образом, суверенность достигается через разнообразие желаний и противоречивость внутреннего мира, а также через осознание того, что единственным критерием объективности становится сомнение в своих собственных убеждениях и инстинктах. Как отмечает Е.А. Полякова, это можно интерпретировать как призыв к одиночеству и независимости, а также как выражение пафоса суверенного индивидуума и ницшеанской деструкции субъекта (Полякова, 2015).
Ф. Ницше опирается на философские апории, открытые И. Кантом в «Критике практического разума» (Кант, 2025). Свобода не существует как безусловная, без границы, она проявляется в опыте чистого акта желания. Я-индивид свободен, когда он действует суверенно, не мотивированный никакой иной причиной, а лишь собственным выбором следовать «закону сердца» как выражению постулатов божественного закона. То есть, с одной стороны, свобода, по И. Канту (Кант, 2025), – следование категорическому закону, с другой – этот акт подчинения индивид принимает сам, руководствуясь свободой выбора. Так возникает ряд антиномий разума, сложно разрешимых в гносеологии и этике И. Канта.
Ф. Ницше трактует служение как стремление выбраться из тупика концептуальных противоречий и совершает поворот к поиску суверенной свободы. Для этого он и осуществляет «бросок» в иррационализм, раскрывающий новые горизонты для мышления и действия, когда она способна «охватить» и могущество жизни в потоке ее становления, и ее нереализованные желания. Свобода и суверенность для Ф. Ницше суть выражение желаний человека, его позитивных сил, тождества и разницы проявления человеческого бытия.
Философские предпосылки концепции суверенности в философии Ж. Батая . Сила, жертвенность, пафос самоутверждения, страсть героизма, а также радикализм в поиске суверенитета, о котором пишет Ф. Ницше, обретают свое продолжение в философии Ж. Батая и его единомышленников. Неслучайно участники тайного общества «Ацефал», созданного по инициативе Ж. Батая, видели в человеческой жертве, свободно предающей себя страданию, образец или путь к необходимому и основополагающему акту общности свободных, равных и суверенных людей (Зенкин, 2006: 124).
В работе «О Ницше» Ж. Батай заходит настолько далеко в своих размышлениях, что начинает считать себя единственным человеком, мыслящим так же, как Ф. Ницше (Батай, 2010). Он никоим образом не подражал последнему, французский мыслитель размышлял, скорее всего, о неутомимом стремлении к неопределенности будущего. Для Ж. Батая ценность Ф. Ницше – это феноменальность философа жизни, который не боится бросить вызов устоявшимся представлениям о добре и зле, открывая новые возможности в понимании человеческого бытия. Еще Ф. Рау отмечал, что каждая новая доктрина Ф. Ницше представляет собой взрывающие баланс бытия крайности, вокруг которых торопливо мечется легкомысленное любопытство толпы. Однако внимание Ж. Батая удерживалось не на правильности или ложности некоторых отдельных положений Ф. Ницше, а на широте и глубине его творения (Rauh, 1903: 256). Ж. Батай полагает, что концепция Ф. Ницше о воли к власти – это философское выражение потребности человека к самореализации, стремления к спасению и Добру (Батай, 2010).
Таким образом, суверенность и хрупкость, быстротечность и трагизм жизни человечества становятся темами размышлений Ж. Батая, который в работе «О Ницше» предлагает задуматься о той неизмеримой цене, которую мы платим за свое подлинное существование (Батай, 2010).
«Заратустра», по Ж. Батаю, – это голос, образ Ф. Ницше как рассказчика, созданный его собственными текстами, где Ф. Ницше и его персонаж словно созидают жизнь друг друга, оживают в рукописях философа. Ж. Батай оценивает это слияние автора и героя, соединяя его, с одной стороны, с понятием жертвы, с другой – понимая как произведение или, более точно, как «фикцию священной реальности» (Bataille, 1954).
Ж. Батай говорит о суверенности как отрицании рабства: «L’esclave est un homme sans souveraineté» («Раб – это человек без суверенности») (Bataille, 1976); о связи суверенности с тратой (dépense): «La souveraineté n’est rien si elle n’est la consommation instantanée, sans économie»; «суверенность – ничто, если она не есть мгновенное потребление, без экономии» (Bataille, 1976: 243–260).
Ж. Батай выявляет понятие суверенного человека: «Не избегать ничего, проживать невозможное. Помещать жизнь, то есть возможное, в соответствие с невозможным, – все то, что может сделать человек, если он не хочет избежать больше» …» (Батай, 2006: 426). С другой стороны, Ф. Ницше в работе «Так говорил Заратустра» приводит фразу Заратустры, в которой призывает учеников не следовать за ним слепо, а найти свой путь: «Вы ещё не искали себя: тогда нашли вы меня. Теперь я повелеваю вам потерять меня и найти себя; и только когда вы все отречётесь от меня, я вернусь к вам» (Ницше, 1990). Здесь Ф. Ницше, как и Ж. Батай, подчеркивает: подлинное существование требует самопреодоления, а не подражания.
Ф. Ницше, по мнению Ж. Батая, был суверенным в том, что способен был сказать: «НЕТ жизни, пока она была легка: но ДА, когда у нее есть выбор невозможного» (Батай, 2006). Из этой апории следует мысль, что, с одной стороны, жизнь невозможна, она порождает страдание, и с другой – утверждение о приятии страдания, то есть о формировании суверенитета. Чтобы выразить суверенность, язык должен быть языком жизни, истекающей кровью. Заратустра советует: «Из всего того, что написано, я люблю только то, что человек пишет своей кровью. Кровью напиши, и ты узнаешь, что кровь – это разум» (Ницше, 1990: 52).
Ф. Ницше утверждает, что он «пишет кровью», противясь метафизике, чтобы его рукописи остались живыми. Именно об этом мысль Ж. Батая: «Ницше написал “своей кровью”: его понять не может тот, кто не прошел испытаний, истекая кровью в свою очередь» (Батай, 2010). Совсем как Ф. Ницше, жертвующий собой, Ж. Батай, испытывающий свое собственное страдание, нас приглашает «истечь кровью» вместе с ним: пройти этап страдания, принять себя как жертву.
Понятие жертвоприношения в философии Ж. Батая – это разрыв рационального порядка, возвращение к сакральному хаосу. Философ подчеркивает, что апогей религиозных обрядов является в жертве, в особенности в тот момент, когда ее убивает палач. Жертва умирает, тогда помощники принимают наличность элемента, который обнаруживает его смерть. Этот элемент – то, что возможно назвать понятием проклятого (Bataille, 1973).
Парадоксальность ницшеанской трактовки свободы состоит в том, чтобы индивиду, дабы избежать крушений, разочарований, страданий, либо подчинения, необходимо подвергнуть себя добровольной аскезе, смирению, испытаниям, жертвенности. Главный фактор здесь – добровольность, собственное желание.
Трудности акта самоограничения рождаются вместе с осознанием индивидуума как целого, и его свобода может следовать только из проявления силы инстинкта. Мир индивидуума, его рост, развитие следуют из соотношения сил, противостояний между двумя системами инстинктов.
Чем больше человек преодолевает свои внутренние инстинкты и желания, тем больше он обретает свободу и суверенитет. Ф. Ницше делится своим опытом, отмечая, что, в противостоянии своим желаниям он становился более одиноким и недоверчивым к самому себе. Это само-преодоление и борьба со скрытыми внутренними вожделениями служат показателем силы личности и мерой подлинной свободы.
В отличие от ницшевского «да» жизни, Ж. Батай говорит о трате (dépense) – разрушительном акте, который выходит за пределы полезности (Bataille, 1973).
Метод философствования Ж. Батая сближается, с одной стороны, с философией Г. Гегеля, а содержание его мысли или практика напоминают жизнь и идеи Ф. Ницше. Влияние ницшеанства на французского философа настолько сильно, что Ж. Батай даже превосходит его в святом утверждении о ребенке, желающем создать новые ценности, в понятии «настоящего игрока», который определяет случай, даже смерть, предметом размышлений.
Соединяя в синтезе своих рефлексий идеи Ф. Гегеля и Ф. Ницше, Ж. Батай формирует собственную идею суверенитета. Суверенный человек, описанный им, – тот, кто отклоняет субординацию в цели или в проекте, то, что его заставляет «говорить, да без оговорок» даже так, чтобы встречать непостижимость и смерть. Ж. Батай восклицает: «Мы должны размышлять глубоко, чтобы не остаться жертвами мысли, действовать до конца, чтобы не быть больше жертвами объектов, которые мы производим» (Батай, 2006).
Сущность суверенитета состоит в том, что он ускользает, безостановочно трансформируется. Впрочем, поиск внутреннего опыта ограничивает часы полноты жизни – той, что не сводится к простому рабскому существованию. Ж. Батай часто замечает, что человеческое призвание подчинено работе. По его мнению, в процессе эволюции цивилизаций, рабское служение сводится к собственному выбору человека. Иными словами, индивид сам подчинен его цели, а человеческое положение равняется положению средства и вещи, которые служат для работы. Так, что он следует от неумения к умению, желая прожить опыт смерти. Возможно, Ж. Батай в своем внутреннем опыте стремится стать экспериментатором феномена смерти. Суверенность означает нахождение в настоящем моменте, ускользание от страха смерти, так как в суверенитете «настоящее не подвергнуто больше требованию будущего» (Батай, 2006: 255–257). Ж. Батай настаивает на этом. По его мнению, правитель не довольствуется тем, чтобы жить в мире, окруженном запретом. Он безостановочно восстает против запрета и предается борьбе против всего того, что сужает границу бытия.
Общее и особенное в концепте суверенности и свободы в философии Ф. Ницше и Ж. Батая . Итак, постараемся осуществить сравнение идей Ф. Ницше и Ж. Батая, раскрывающих содержание концепта «суверенность» более детально.
Первое. По Ж. Батаю, это не власть в ее ницшевском смысле, а, скорее, абсолютная свобода от полезности, от подчинения чему-либо. В работе «Проклятая доля» (Bataille, 1949) суверенный человек тратит энергию без цели, подобно солнцу, излучающему свет без поиска выгоды и расчетов. Другая важная цитата философа в этом контексте: «Суверен – это тот, кто существует, чтобы растрачивать, а не трудиться, чтобы наслаждаться, а не копить» (Батай, 2006: 121). И еще одна ключевая мысль Ж. Батая из «Теории религии»: «Суверенность – это радикальное отрицание полезности» (Батай, 2000). Кроме того, философ связывает понятия человека играющего и суверенное самоопределение.
У Ф. Ницше нет прямого аналога батаевской «суверенности», но близкие идеи встречаются в его концепциях «воли к власти», «господина» (Herr) и «сверхчеловека» (Übermensch). Рассмотрим последовательно эти идеи философа.
Суверенность для Ф. Ницше связана с понятием «воля к власти»1, которое представляет собой фундаментальную движущую силу жизни, стремление к мощи, преодолению, господству. Это не просто желание власти над другими, оно распространяется и на самого субъекта, то есть речь идет о самопреодолении. «Воля к власти» как суверенная сила, по Ф. Ницше, как принцип, объясняла бы само суверенное движение. Это понятие можно обнаружить в таких работах Ф. Ницше, как «Веселая наука» (пятая часть) и «Так говорил Заратустра», а также фрагментарно в книге «Генеалогия морали».
«Воля к власти» доминирует в философии Ф. Ницше, проявляется как внутренняя сила, жизненный порыв, который сопровождает каждую нить человеческого существования. Философ трактует жизнь как силу, энергию, которая стремится к утверждению, к превосходству над инерцией неизменного. Действительно, для Ф. Ницше воля – это полная противоположность фрустрации, позитивная сила; между волей и силой существует тождество и неразличение (какие цели на что направлены). Воля желает вечности. Именно при этих условиях индивид может быть хозяином, господином, то есть суверенно свободным.
«Воля к власти» в философии Ф. Ницше – это не концепция, которая говорила бы об истине бытия, принципе новой онтологии, это прежде всего критический оператор, призванный разоблачить веру в то, что сохраняется, в субстанции оставаясь тождественным, участвует во всех знаниях, во всех представлениях. Знание на самом деле не имеет привилегий. Это также способ господства, доминирования, подчинения, он остается заключенным в мире, который знает только отношения власти, где обязательно есть доминанты. Знание – это стремление к мастерству, поскольку оно вносит фиксированность, стабильность, постоянство, упрощение, смысл, ориентацию к становлению... Так, змея – тотем Заратустры, нечто живое, молчаливое, ледяное, гладкое, скользкое, неуловимое, чуждое всякой привычности, всякой домашней жизни.
Под влиянием идей Ф. Ницше, Ж. Батай определяет свободу и игру как характеристики мира в его парадоксальности. «Ясно, – говорит Батай, – что мир чисто пародиен... Каждый знает, что интерпретация отсутствует» (Батай, 2006: 44). Существует ли трактовка, которая дала бы миру первоначальную основу, стала бы фиксированной точкой, что поддерживает единство между вещами, иерархию между терминами, прерывая тем самым всеобщий, чрезмерный, неопределенный круговорот взаимодействующих вещей, пародию на игру. Опыт Ф. Ницше, по Ж. Батаю, – это прежде всего опыт коллапса, открывающегося этому бесконечному опыту игры и становления.
Второе понятие, связанное с идеей суверенности – это мысль Ф. Ницше о вечном возвращении, которая, во-первых, есть мысль о полудне, о часе, когда тень коротка, когда все останавливается, чтобы начаться сначала; есть также зловещая мысль о полуночи, мысль, которая вызывает у Заратустры страх и крик о предчувствии бедствия. В драматургии и символике вечного возвращения у Заратустры змей одновременно тот же и иной, чем «черный змей», который душит юного пастыря и от которого он один может освободиться. Самая грозная мысль, самая «тяжелая» ноша – вот, что делает Заратустру больным, потому что он остается метафизиком, неспособным отказаться от поисков смысла. Но именно эта мысль несет с собой отвращение к человеку и ко всему существованию. Она содержит искушение: это становление, его символ – свернувшаяся змея, оно преобладает само по себе, нет ни цели, ни смысла, ни запредельного, «все равно, ничто не стоит усилий, знание задыхается». При вечном возвращении утверждение жизни настолько тотально, что несчастья, страдания и разрушения сами становятся объектами утверждения. Таково трагическое или «веселое» знание, которое обнаруживается в смехе маленького пастушка, когда голова черной змеи отрублена и выплюнута. Так богата, так чрезмерна, так глубока радость, что жаждет боли, ада, ненависти, позора, немощи мира (Ницше, 1990).
Во-вторых, мысль о возвращении утверждает новую мудрость, которая подрывает в корне веру в историю и в лучшее будущее, веру, богословский подтекст которой легко уловим. Освободившись от цели, мир в каждый момент оказывается завершенным, приближающимся к своему концу. Каждое мгновение несет в себе предельность мира, или, как говорит Ж. Батай, «возвращение обездвиживает момент, освобождает конец жизни» (Батай, 2010: 27). Чтобы запретить любую авантюру, любое бегство в будущее, перспектива возвращения сводит на нет мысли тех, кто хочет видеть в становлении «творческую эволюцию», божественную силу, силу бесконечных инноваций.
И в чем эта идея связана с понятием суверенитета у Ж. Батая? Суверенитет, по философу, – это жизнь без промедления, расточительная трата, в которой, отрываясь от охватившей его скупости, человек на мгновение отождествляет себя с «опьянением небес» и с их интенсивным расточительством. Населенный молниями, человек теряет равновесие в буре жизни, но экстаз возвращает ему утраченное великолепие и возрождает на грани смерти. Ф. Ницше также рассматривает суверенность как борьбу с внутренними желаниями и сомнениями. Он утверждает, что философия должна подвергать сомнению все стремления, включая концепцию высшего существа, что может служить доказательством его несуществования. В этом контексте личность в философии должна осознать, что жизнь не имеет заранее установленного смысла или цели, а представляет собой бесконечный цикл, отраженный в идее «вечного возвращения».
Третье понятие Ф. Ницше, связанное по содержанию с суверенитетом, – это понятие Благородного человека, Господина, который объявляет свою ценность и свою великодушную сущность. Благородная душа его лишена ограничений, «ее эгоизм ему в этом мешает: она не смотрит охотно, главным образом, “кверху”, – но либо перед нею, по горизонтали и с медлительностью, либо внизу: она знает совсем наверху». Ф. Ницше пишет: «Благородный человек ощущает себя устанавливающим ценности, ему не нужно, чтобы его одобряли… он творит ценности» (Ницше, 2024).
Благородная душа считается способной на большой поступок, она эгоистична, свободна, сильна и тверда. Однако Ф. Ницше утверждает, что «глубокое страдание дает эффект благородный» (Ницше, 2024). Речь, на наш взгляд, идет не о том, что забота о страдании другого делает человека благородным, а о том, что есть внутренняя сила для преодоления больших страданий (Ницше, 2024).
Иначе говоря, создание и утверждение себя, несмотря на страдание, – единственный выбор, возможный для благородного человека, чтобы освободиться от зла и желания мести. Таким образом, быть ответственным – значит становиться феноменом господствующего инстинкта. Свободный человек в этой перспективе не подчинен духовным предубеждениям или социальным соглашениям, но, скорее, он свободное существо, которое черпает свою силу в непрерывном создании новых ценностей. В итоге господин Ф. Ницше со своим призывом к созидательной деятельности и ко взятой на себя ответственности – это портрет свободного человека, открытого перспективам будущего, выковавшегося его собственной волей к власти.
Здесь идеи Ф. Ницше пересекаются с положениями Ж. Батая, ибо его суверенный человек означает того, кто осмеливается мыслить на грани эпистемологии и онтологии, отторгает всякую границу между этими сферами. Человек сталкивается с ограничениями мировоззрения, норм морали, традиций, преодоление которых есть антиномия свободы и необходимости. Человеческая правда немедленно выдает себя там, где индивид преодолевает свою собственную границу. Философ сумел согласовать свои мысли о человечестве, которое принимает этот выбор и то, что эротизм и смерть соответствуют друг другу (Фокин, 1994).
Но, с другой стороны, у Ж. Батая в первом аспекте речь идет о человеке «трудящемся» или «человеке знания». Второй смысл, более существенный, оказывается в переходе от Человека, производящего орудия труда, к Человеку играющему (Homo Ludens). Для Ж. Батая игра, являющаяся одновременно отдыхом и рабочим излишком, может пробудить человечество открыть ее для себя.
В итоге, согласно философу, появилось иное, новое человечество, решительное и суверенное, последовавшее за человеком играющим. Ж. Батай поясняет, что именно искусство делает человека подлинно человеческим, в искусстве он может реализовывать себя посредством игры, творчества, а не работы, утомляющей и забирающей все жизненные силы.
Заключение . Сформулируем ряд выводов на основе наших рассуждений.
-
1. Ф. Ницше свобода понимается как господство, возможность безраздельно управлять силами, превосходящими нас самих. В этом парадоксальность его идеи. Суверенная свобода претендует на то, чтобы быть автономной, то есть исключает всех тех, кто не готов ей жертвенно служить. Свобода, по Ф. Ницше, – это разрыв, событие, исключение.
-
2. Мысль Ф. Ницше о суверенности становится ключом к пониманию человеческой природы. Тем не менее попытки установить универсальные нормы для этого процесса могут привести к его обобщению, превращая индивидуальное самопреодоление в нечто коллективное и зависимое. Таким образом, достижение суверенности – это сложный путь, направляющий человека к самоопределению, самооцениванию и признанию своих подлинных ценностей и добродетелей.
-
3. Философия Ж. Батая не призывает нарушать нормы бытия, а помогает преодолеть внутренние запреты, которые инициируют человека на совершение преступлений. Выйти за рамки запрета – значит чувствовать то, что по-настоящему страшно или стыдно: страшно смотреть на переживания и страдания человечества, трагично, что они наполняют мир повседневности, противостояний и борьбы за спасение и гармонию любви, красоты и блага.
-
4. Ф. Ницше и Ж. Батай радикально переосмысливают проблему подлинного существования, но предлагают разные пути ее решения. Ж. Батай связывает ее с разрушением субъекта через жертву и трансгрессию как трату и выход за пределы Я. Ф. Ницше трактует подлинность как утверждение индивидуальной воли.
-
5. Ключевые идеи Ф. Ницше и Ж. Батая имеют оригинальный характер. Так, воля к власти – движущая сила подлинного существования, стремление к мощи, а не просто к выживанию; вечное возвращение – тест на подлинность: если ты готов повторять свою жизнь бесконечно, значит, ты живешь по-настоящему и способен в свободе создавать свои ценности, преодолеть в себе «человеческое, слишком человеческое».
-
6. Ж. Батай понимал, что время для суверенности не настало, суверенитет осуществляется в границе, но его действенность означает факт отсутствия различия между темой и целью. Нарушение запретов нивелирует прежде установленные ценности и приводит их к небытию. Следовательно, по Ж. Батаю, невозможно, чтобы суверенитет осуществился. Выйти же за рамки трансгрессивного состояния – значит не сопротивляться существующему миру, а иметь смелость осознать, почему так происходит, позволить ему быть необъясненным.
У Ж. Батая суверенность – это жизнь вне подчинения принципу полезности, отказ от экономики выгоды. Центральные понятия его творчества – это трансгрессия, то есть нарушение, табу (сакральное, насилие, эротизм, жертвоприношение) как способ вырваться из рационального порядка (Поулетт, 2020; Зыгмонт, 2018); «проклятая часть» (la part maudite) – избыток энергии, который нельзя использовать продуктивно, его нужно тратить (жертвовать, разрушать); смерть и смех как предельные стадии опыта, разрушающие иллюзию стабильного «я» (Bataille, 1976).