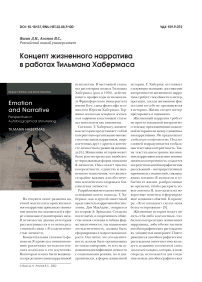Концепт жизненного нарратива в работах Тильмана Хабермаса
Автор: Яшин Даниил Николаевич, Агапов Валерий Сергеевич
Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday
Рубрика: Вопросы психологии
Статья в выпуске: 8, 2022 года.
Бесплатный доступ
Раскрывается подход Т. Хабермаса к исследованию жизненных нарративов; приводятся основные положения подхода. Описываются следующие аспекты жизненных нарративов, освещаемые в работах автора: глобальная нарративная когерентность и ее типы; диахронический аспект личностной идентичности; дорефлексивное переживание непрерывности Я и лингвистические признаки его нарушений; текстово-аналитические методы изучения жизненных нарративов; взаимосвязь идентичности, развития и культуры.
Жизненный нарратив, нарративная методология, нарративная идентичность, автобиографическая память
Короткий адрес: https://sciup.org/148325763
IDR: 148325763 | УДК: 159.9.072 | DOI: 10.18137/RNU.HET.22.08.P.100
Текст научной статьи Концепт жизненного нарратива в работах Тильмана Хабермаса

АГАПОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Российская федерация, Москва
VALERIY S. AGAPOV
Moscow, Russian Federation
рассуждений, циклически конструируя жизненные нарративы.
Глобальная нарративная когерентность определяется тремя аспектами: темпоральным, каузально-мотивационным и тематическим. Темпоральная когерентность создает временну́ю ориентировку посредством последовательной структуры и хронологии; каузальномотивационная когерентность создает непрерывность Я, соединяя жизненные события с личностным развитием; тематическая когерентность привносит смыслы через абстрактные жизненные темы [10]. Темпоральная и каузальная когерентности позволяют последовательно расположить события по- средством каузально-мотивационных соединений. Тематическая когерентность обеспечивает выделение доминирующих тем в жизни индивида. Подобные темы возникают в жизненной истории снова и снова.
Т. Хабермас дополнительно выделяет четвертый аспект глобальной когерентности, стоящий несколько отдельно от остальных – культурный концепт биографии. Под ним понимаются представления о ключевых жизненных этапах и сферах, исторически сформировавшиеся в той или иной культуре. К примеру, в западной культуре выделяют такие этапы жизни человека как детство, школьные годы, юность, взрослая жизнь, старость, а также такие сферы, как учеба, карьера, семья (брак, дети) и др.
Переходя от теоретических рассуждений к эмпирическим построениям, Т. Хабермас утверждает, что для изучения развития когерентной жизненной истории необходимо разработать инструменты измерения глобальной когерентности. Для этого он намечает две стратегии. Первая основывается на глобальном впечатлении слушателя – в прикладных исследованиях Т. Хабермас с коллегами просят людей рассказывать жизненные истории в устной форме; истории дословно протоколируются слушателями и впоследствии подвергаются анализу. Вторая стратегия основывается на формальных элементах текста как такового.
Для реализации данных стратегий Т. Хабермас разрабатывает подход к автобиографическим нарративам, принципиально отличающийся от других, так как основной целью для него выступает дифференциация глобально когерентных нарративов от глобально некогерентных. Исходя из этого ученый формулирует следующие положения своего подхода:
-
• анализу подвергаются нарративы всей жизни, а не отдельных воспоминаний;
-
• оценка всего текста дополняется анализом формальных синтак-сически-семантических элементов; • предполагается, что вклад этих элементов в глобальную когерентность дополняющий, то есть относительная частота показателей может быть использована как непрерывная мера степени локального вклада в глобальную когерентность;
-
• интервьюирование участников исследования не проводится посредством задавания им серии вопросов; вместо этого их просят осуществить свободный монолог с целью минимизации влияния исследователя на степень выявляемой когерентности.
Диахронический аспект феномена Я был взят Т. Хабермасом в качестве методологического основания своего подхода не только с целью изучения глобальной когерентности. Будучи психоаналитически-ориентированным мыслителем, он придает большое значение клиническому рассмотрению нарушений идентичности. Он утверждает, что важность диахронического аспекта наиболее явно прослеживается, когда он нарушен. Нарушение дорефлексивного переживания непрерывности Я ощущается как утрата владения собственными телом, мыслями, чувствами и действиями.
Это может быть временным колебанием в моменты острого стресса и «ударов» по идентичности [2] или более хроническим состоянием деперсонализации и диффузии идентичности [1]. Указанные феномены сопровождаются непосредственным отчуждением Я, тогда как рефлексивные суждения о личностной идентичности остаются нетронутыми.
Т. Хабермас выделяет три психологических механизма, служащих поддержанию дорефлексив-ного переживания непрерывности Я [8]. Первый механизм – это простой акт припоминания прошлого опыта. Второй – поддержание одинаковости припоминаемого Я в течение времени. Третий механизм – относительная стабильность тела, социальных связей, физической среды и рутинных активностей личности.
Т. Хабермас оппонирует исследовательнице автобиографической памяти Сьюзан Блак [3], отмечая, что она не проводит различий между дорефлексивным переживанием единства Я и рефлексивным осознанием и конструированием этого единства. Занимая противоположную позицию, Т. Хабермас следует традиции описательной психопатологии и утверждает, что, когда вышеописанные механизмы поддержания непрерывности Я нарушаются, требуются менее автоматизированные и более произвольные усилия для его восстановления. Для компенсации снижения дорефлексивного переживания непрерывности Я он предлагает две стратегии. Первая исходит из утверждения, что специфические разновидности аргументов могут простроить «мосты» между биографическими изменениями и сбоями. Вторая стратегия исходит из утверждения, что непрерывность Я требует активного рассказывания жизни, что позволяет закрывать разрывы по- средством встраивания биографических сбоев и изменения биографического сюжета.
Рассматривая непрерывность Я, Т. Хабермас указывает на важность ее дифференциации от самотож-дественности, которой присуща инвариантность, тогда как непрерывность Я предполагает активное соединение (когеренцию) личностных изменений для поддержания личностной идентичности, протяженной во времени (диахронической).
Нарративная когерентность выступает психотерапевтическим механизмом не только в случаях ситуативной или хронической диффузии идентичности, но также при тяжелых психотравмах. Так, в одной из работ Т. Хабермас с коллегами утверждает, что нарративы интегрируют когницию и аффект, устанавливают каузальный и темпоральный порядки, и соединяют опыт с различными событиями. В связи с этим в большинстве психотерапевтических подходов имеет место со-конструирование нарратива пережитого опыта. Т. Хабермас приводит три лингвистических аспекта, отражающих структуру нарративов травмы: снижение в оценивании (словесное оформление субъективных реакций), погружение в прошлый опыт (недостаточная вненаходимость) и фрагментация (нарушения в построении беглых, корректно построенных предложений) [11].
Согласно некоторым прикладным исследованиям, в так называемых дистресс-нарративах количество слов, обозначающих когни-ции и эмоции, было наименьшим. Особо резкое снижение «когнитивных» слов имело место в группе страдающих от посттравматического стрессового расстройства.
Погружение в прошлый опыт характеризуется интенсивным повторным переживанием травматического события при отсутствии
КОНЦЕПТ ЖИЗНЕННОГО НАРРАТИВА В РАБОТАХ ТИЛЬМАНА ХАБЕРМАСА опытной привязки к настоящему, что является частью нормального припоминания. Лингвистически это проявляется в затяжном рассказывании, доминировании перцептивных выражений над когнитивными и преобладанием прошлой перспективы над настоящей. Дополнительным проявлением может выступать драматичный стиль повествования. Основным признаком здесь выступает чрезмерная длина рассказов в сравнении с позитивными или нейтральными нарративами. В секциях флешбеков в нарративах травмы было больше перцептивных слов, чем в других.
Говоря о фрагментации, Т. Хабермас обозначает неграмотность как наиболее точный показатель, так как она тесно связана с трудностями в повествовании (незаконченные предложения). Повторы и паузы («речевые наполнители») указывают на трудности в планировании высказываний в реальном времени, что является общим лингвистическим феноменом, однако увеличение оных связано с возрастанием уровня тревоги.
Из трех рассмотренных лингвистических аспектов фрагментация характеризуется наименьшим эмпирическим обоснованием. Наиболее информативными выступают качества погруженности в прошлый опыт. Сенсорные и сценические качества травматического опыта отражают стремление рассказчиков поделиться этим опытом с другими.
Рассмотрение лингвистических аспектов жизненных нарративов не исчерпывается областью клинической психологии. Т. Хабермас подчеркивает важность текстовоаналитических методов при анализе биографических и автобиографических рассуждений. В автобиографических нарративах порядок имевших место событий, как правило, линейный. При устном изло- жении нарративов отклонения от линейного порядка могут быть обусловлены слабыми навыками рассказывания, эмоциональным смятением, неопределенностью, но также тяготением к эстетическому стилю повествования. В последнем часто используются анахронии. В основную линию повествования вкрапляются временны́е скачки вперед (пролепсисы), и назад (ана-лепсисы) [7].
Т. Хабермас также дифференцирует две разновидности анахро-ний. Те, которые впоследствии возвращаются к отправной точке, он называет инсерциями (вставками). Анахронии, которые к отправной точке не возвращаются, он называет темпоральными скачками .
Отдельно Т. Хабермас выделяет неотмеченные анахронии , которые представляют собой темпоральные скачки, допущенные непроизвольно. Как правило, они имеют место при когнитивной незрелости или при психопатологических состояниях, таких как пограничная патология или психоз.
Отметим важную текстологическую особенность, присущую автобиографическим нарративам и упоминаемую Т. Хабермасом. Им свойственна незавершенность, ввиду чего окончание подобных нарративов может содержать ожидания и планы индивида, относящиеся к будущему. Итак, модальность будущего является важным аспектом диахронической протяженности личностной идентичности.
Наконец, последний аспект, выявленный нами в работах Т. Хабермаса, относится к взаимосвязи жизненных нарративов, развития и культуры [4]. Так, становление идентичности происходит в неразрывной связи с социокультурными условиями, в которых развивается личность. Если в традиционных культурах личность обретает когерентность и постоянство через стабильность места проживания, ролей и отношений, то в современных индустриализованных культурах она обретает когерентность и постоянство посредством индивидуальных нарративов, которые сплетают эти разрозненные части воедино. Таким образом, в современных культурах автобиографические нарративы помогают создавать чувство индивидуального постоянства и когерентности на протяжении времени.
Т. Хабермас отмечает, что, начиная с раннего возраста, взрослые вовлекают детей в обсуждение прошлого и участие в со-конструировании нарративов ежедневных событий. Любопытно, что уже дети в возрасте 4–6 лет отражают культурологические различия в своих независимых автобиографических нарративах. К примеру, дети Китая и Кореи приводят более обобщенные и «скелетообразные» описания своего прошлого (своего рода «сухую выжимку» фактов), тогда как дети Америки приводят более детализованные описания единичных событий, содержащие больше личных предпочтений, мнений, описаний внутренних состояний.
Разделяя точку зрения других современных исследователей роли жизненных нарративов в индивидуальном развитии, Т. Хабермас выделяет подростковый возраст как ключевой в развитии навыков рассказывания [5]. Так, в этом возрасте автобиографическое припоминание и рассказывание сливаются с развитием понимания личностной идентичности и индивидуальности. Параллельно с этим процессом происходит развитие когнитивных и социальных способностей, а также формируется мотивация к созданию взрослой идентичности личности.
Говоря о ранее описанном культурном концепте биографии, следует упомянуть еще один схо- жий феномен, описанный Т. Хабермасом – мастер-нарратив. Под ним подразумеваются архетипические истории, преобладающие в той или иной культуре.
Важной особенностью становления идентичности личности является то, каким образом ей преподносят свою идентичность родители. Т. Хабермас считает, что в данном вопросе ключевую роль играют гендерные различия. Так, в западных культурах межпоколенческие нарративы критически важны для развития идентичности девочек в подростковом возрасте, так как им необходимо оставаться в большем контакте с семьей в процессе открытия сложностей взросления, нежели мальчикам. Было обнаружено, что как матери, так и отцы вспоминают большее количество социально-эмоционального взаимодействия и межличностных ситуаций с дочерями, нежели с сыновьями. С последними, как пра- вило, вспоминаются различные автономные занятия [12].
Ссылаясь на культурно-историческую теорию Л.С. Выготского, Т. Хабермас утверждает, что по мере взросления дети начинают интернализировать модели, наблюдаемые в социуме, и с их помощью формулируют собственные независимые нарративные воспоминания о своем жизненном опыте. Об этом свидетельствует высокий интерес подростков к дневникам, биографиям и блогам. К этому моменту развития даже рассказывание самому себе в личном дневнике или припоминание в уме активизируют интернализованные культурные формы, которые обеспечивают подростка «каркасом», основой для самостоятельного понимания жизненного опыта. Таким образом, нарративы являются социальным феноменом, так как на протяжении всей жизни мы рассказываем о событиях, происходящих с нами, другим людям, но вместе с тем эти же нарративы выступают интернализованным инструментом индивидуальной мысли.
Отдельным вопросом, требующим изучения, является роль социальных медиа в создании новых культурных нарративных инструментов. Т. Хабермас подмечает, что на сегодняшний день мы знаем очень мало о том, какие нарративные формы присущи блогам, Facebook, Twitter, постоянным перепискам, в которых подростки ежедневно делятся своим опытом, и каким образом подростки используют эти медиа для создания нарративных идентичностей. Т. Хабермас считает, что культурные и индивидуальные формы находятся в диалектическом взаимовлиянии друг на друга, но каким образом это происходит с течением времени по отношению к социальным медиа, исследователям еще предстоит выяснить.
Список литературы Концепт жизненного нарратива в работах Тильмана Хабермаса
- Кернберг О.Ф. Тяжелые личностные расстройства: стратегии психотерапии. М.: Независимая фирма «Класс», 2017. 464 с.
- Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Издательская группа «Прогресс», 1996. 344 с.
- Bluck S., Liao H.-W. I was therefore I am: Creating self-continuity through remembering our personal past. The International Journal of Reminiscence and Life Review. 2013. Vol. 1, No. 1. P. 7–12.
- Fivush R., Habermas T., Zaman W. The making of autobiographical memory: Intersections of culture, narrative and identity. International Journal of Psychology. 2011. Vol. 46, No. 5. P. 321–345.
- Habermas T., Bluck S. Getting a life: The emergence of life story in adolescence. Psychological Bulletin. 2000. Vol. 126, No. 5. P. 748–769.
- Habermas T., de Silveira C. The development of global coherence in life narratives across adolescence: Temporal, causal, and thematic aspects. Developmental psychology. 2019. Vol. 44, No. 3. P. 707–721.
- Habermas T., Ehlert-Lerche S., de Silveira C. The development of the temporal macrostructure of life narratives across adolescence: Beginnings, linear Narrative form, and endings. Journal of personality. 2009. Vol. 77, No. 2. P. 527–560.
- Habermas. T., Köber, C. Autobiographical reasoning in life narratives buff ers the eff ect of biographical disruptions on the sense of self-continuity. Memory. 2015. Vol, 23. No. 5. P. 564–574.
- Köber C., Kuhn M., Peters I., Habermas T. Mentalizing oneself: detecting refl ective functioning in life narratives. Attachment& Human Development. 2019. Vol. 21, No. 4. P. 313–331.
- Köber C., Schmiedek F., Habermas T. Characterizing lifespan development of three aspects of coherence in life narratives: A cohort-sequential study. Developmental psychology. 2015. Vol. 51, No. 2. P. 260–275.
- Römisch S., Leban E., Habermas T., Döll-Hentschker S. Evaluation, involvement, and fragmentation in narratives of distressing, angering, and happy events by traumatized and non-traumatized women. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice and Policy. 2014. Vol. 6, No. 5. P. 465–472.
- Waters T., Köber, C., Raby L., Habermas T., Fivush R. Consistency and stability of narrative coherence: An examination of personal narrative as a domain of adult personality. Journal of Personality. 2019. Vol. 87, No. 2. P.151–162.