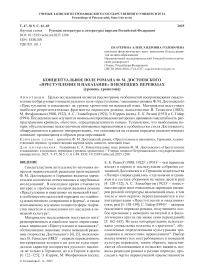Концептуальное поле романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в немецких переводах (уровень хронотопа)
Автор: Головачева Е.А.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русская литература и литературы народов Российской Федерации
Статья в выпуске: 5 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Целью исследования является рассмотрение особенностей воспроизведения смыслои сюжетообразующего концептуального поля «преступление / наказание» романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» на уровне хронотопа на немецкий язык. Материалом выступают наиболее репрезентативные фрагменты переводов романа, выполненные В. Генкелем (1882), М. Феофановым (1908, 1922), А. С. Элиасбергом (1921), Э. Кэррик (псевд. Е. К. Разин) (1953) и С. Гайер (1994). Последовательно изучаются нюансы воспроизведения авторских признаков «масштабность распространения кризиса», «бегство», «предопределенность конца». Установлено, что наибольшие потери, обусловленные недостаточным вниманием переводчиков к особенностям стиля Достоевского, обнаруживаются в ранних интерпретациях, что сказывается на степени передачи аксиологических доминант произведения и образов ряда персонажей.
Хронотоп, Ф. М. Достоевский, роман, «Преступление и наказание», Германия, художественный перевод, художественная картина мира, концепт, немецкий язык
Короткий адрес: https://sciup.org/147250796
IDR: 147250796 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1200
Текст научной статьи Концептуальное поле романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в немецких переводах (уровень хронотопа)
Свидетельством актуальности изучения вопросов переводческой рецепции произведений Ф. М. Достоевского в Германии является значительное количество отечественных и зарубежных исследований1. В последнее время отмечается интерес к проблемам воспроизведения романа «Преступление и наказание» на немецкий язык2, к особенностям целостной передачи его идейнохудожественного содержания и формы3, а также комплексному изучению концептосферы творчества писателя и осмыслению его наследия в немецкой культуре4.
Материалом исследования послужили пять5 разновременных и наиболее часто переиздаваемых переводов «Преступления и наказания»6, обозначивших знаковые этапы немецкой рецепции творчества Достоевского [4], [5], выполненных В. Генкелем (1882)7 – первым переводчиком, интерпретация которого на долгие годы определила характер восприятия русского писателя не только в Германии, но и в Европе в целом [4: 122–125]; Э. Кэррик, М. Феофановым (псевд.
Е. К. Разин)8 (1908, 1922)9, (1953)10 – чьи переводы входят в первое и последующие собрания сочинений Достоевского в Германии издательства «Пипер» (переиздавались отдельными изданиями и в составе сборников не менее десяти раз) [4: 128–132]; А. С. Элиасбергом (1921)11 – известным автором многочисленных переводов шедевров русской литературы на немецкий язык, в том числе и многократно переиздававшегося в его интерпретации «Преступления и наказания» (пять раз) [5: 158–159]; С. Гайер (1994)12 – автором последнего перевода романа, получившего особое признание у немецких читателей и в филологических кругах (не менее семи переизданий) [5: 162–165]. Во всех интерпретациях использованы уникальные подходы и стратегии13, обусловленные определенными культурными традициями и личностями переводчиков14. Выбор вышеупомянутых востребованных в немецкой культуре переводов, таким образом, представляется обоснованным и позволяет выявить нюансы рецепции романа в разные периоды, проследить черты переводческой преемственности
и тенденции к воспроизведению художественной аксиологии и поэтики подлинника.
В настоящей статье рассмотрены особенности передачи на немецкий язык наиболее репрезентативных эпизодов романа, в которых объективируются авторские признаки концептуального поля (КП)15, представленные на пространственно-временном уровне текста: «масштабность распространения кризиса», «бегство», «предопределенность конца» [3]. В оригинальном тексте они указывают на важные для понимания идеи произведения аксиологические особенности, позволяют уточнить мировоззренческую позицию Достоевского, а также на всем протяжении романа акцентируют мысль писателя о глубине кризиса, переживаемого русским обществом, и о повсеместной утрате православных ценностей (соборности, милосердия, сострадания и т. д.) [3: 251–252].
Методология сопоставительного анализа переводов базируется на концептологическом анализе, который позволяет выявить факты соответствия перевода оригиналу на всех уровнях поэтики, объяснить причины переводческих потерь и трансформаций, а также глубже осмыслить нюансы восприятия романа16.
Критериями оценки эквивалентности переводов и адекватности передачи КП на пространственно-временном уровне выступают следующие: степень воспроизведения аксиологических оттенков репрезентантов концептов и приращений, которые присутствуют в индивидуальном сознании писателя и отражаются в художественном произведении; особенности стиля Достоевского; нюансы ритмики и синтаксиса оригинального текста с точки зрения норм немецкого языка17.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРИЗНАКА КП
«МАСШТАБНОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КРИЗИСА»
При передаче признака КП «масштабность распространения кризиса»18, актуализированного во второй части романа, перед переводчиками встает задача показать, во-первых, категоричность взглядов сторонников «прогрессивных» идей (Лужина), во-вторых – трагедию уничтожения традиционных ценностей.
«Все эти наши новости, реформы, идеи – все это и до нас прикоснулось в провинции ; но чтобы видеть яснее и видеть все, надобно быть в Петербурге » (VI: 115)19.
«… распространены новые, полезные мысли, распространены некоторые новые, полезные сочинения, вместо прежних мечтательных и романических; литература принимает более зрелый оттенок; искоренено и осмеяно много вредных предубеждений…; Одним словом, мы безвозвратно отрезали себя от прошедшего , а это, по-моему, уж дело-с…» (VI: 115).
В первом фрагменте при рассмотрении интерпретации Генкеля обнаруживаются некоторые лакуны: отсутствие существительного новости, а также повтора глагола видеть (видеть все) , которые в оригинальном тексте подчеркивают попытку Лужина произвести впечатление современного и осведомленного человека, замечающего тенденции продвижения новомодных идей за пределы столицы.
В позднем переводе Кэррик (1953) лексема прикоснулось (все это и до нас прикоснулось) заменена на проникли (gedrungen) , что усилило ощущение распространения и углубления социальных и нравственных деформаций. В варианте Гайер за счет дополнения лично присутствовать (persönlich anwesend sein) (в Петербурге) акцентируется тщеславный замысел Лужина, который связан не только с запланированной женитьбой, но и со страстным желанием занять высокое положение в обществе.
В интерпретации Генкеля упущено существительное дело-с . Данная лакуна не позволяет первому переводчику донести до немецкого читателя аксиологическую связь воззрений Лужина и представителей молодого поколения, не имеющих истинного дела и испытывающих проблемы самоопределения20, с преступной идеей Раскольникова и утратой им нравственных ориентиров (на какое дело хочу покуситься (VI: 6)).
Выявленные потери (отсутствие перевода слов, повторов) при воспроизведении признака КП «масштабность распространения кризиса» в данном фрагменте не позволили Генкелю передать трагедию разрушения традиционного общества и раскрыть ряд черт Лужина (малодушие, поверхностность) и Раскольникова (отсутствие истинной занятости, погруженность в свои мысли и теории). Благодаря вниманию к слову Достоевского Гайер точно изобразила трагедию распространения идеологических заблуждений и ограниченность воззрений Лу- жина, его готовность пренебречь моральными и нравственными нормами.
В продолжающемся диалоге с Зосимовым и Разумихиным Лужин также акцентирует внимание на многочисленных преступлениях ( преступления (2)), грабежах ( повсеместных и беспрерывных грабежах ), разбоях ( почту разбил ), обманах ( фальшивые бумажки делают, подделывателей билетов ), убийствах ( убивают, убита ))21:
«Не говорю уже о том, что преступления в низшем классе, в последние лет пять, увеличились; не говорю о повсеместных и беспрерывных грабежах и пожарах; страннее всего то для меня, что преступления и в высших классах таким же образом увеличиваются и, так сказать, параллельно. Там, слышно, бывший студент на большой дороге почту разбил ; там передовые, по общественному своему положению, люди фальшивые бумажки делают ; там, в Москве, ловят целую компанию подделывателей билетов последнего займа с лотереей, – и в главных участниках один лектор всемирной истории; там убивают нашего секретаря за границей, по причине денежной и загадочной… И если теперь эта старуха процентщица убита одним из закладчиков, то и это, стало быть, был человек из общества более высшего, – ибо мужики не закладывают золотых вещей, – то чем же объяснить эту с одной стороны распущенность цивилизованной части нашего общества?» (VI: 117).
Несмотря на очевидную сложность воспроизведения всех лингвостилистических нюансов данного фрагмента (обилие повторов ( там ), специфических временных указаний ( последние лет пять, беспрерывных, теперь )), практически во всех интерпретациях они воссозданы без потерь, что позволило донести до немецкого читателя атмосферу современных городов, в которых культ наживы затрагивает все социальные слои. Однако Элиасберг упускает лексему повсеместных и тем самым не акцентирует внимание на масштабе распространения преступлений.
В четвертой части романа переводчикам необходимо показать повсеместную бедность русских семей, которая подчеркнута Достоевским на уровне слова (местоименные наречия здесь, там (2) , выражения по углам, в какой обстановке )22.
«Неужели не видала ты здесь детей, по углам , которых матери милостыню высылают просить? Я узнавал, где живут эти матери и в какой обстановке . Там детям нельзя оставаться детьми. Там семилетний развратен и вор» (VI: 252).
В варианте Генкеля отсутствует перевод слова развратен, маркирующего очень чуткое понимание Раскольниковым трагедии разрушения семей, а также глубокую деградацию человеческих и семейных ценностей, безнрав- ственность поступков детей, потерявших веру в справедливость и покровительство Бога. В других рассматриваемых интерпретациях потерь не обнаружено.
В шестой части романа признак «масштабность распространения кризиса» актуализируется в речи Свидригайлова, который отмечает нездоровую атмосферу Петербурга и указывает на преступления, охватившие пространство сто-лицы23:
«Народ пьянствует, молодежь образованная от бездействия перегорает в несбыточных снах и грезах , уродуется в теориях; откуда-то жиды наехали , прячут деньги, а все остальное развратничает» (VI: 370).
В варианте Генкеля данный фрагмент не переведен, а весь рассказ Свидригайлова (включая сцену в танцевальном зале) про его сватовство дан в очень кратком изложении. Поэтому в самой ранней интерпретации теряется важная деталь образа Свидригайлова: осознанное понимание им масштаба разрушения традиционных ценностей, что служит отличительным маркером, позволяющим выделить его среди других персонажей романа (Лужина, Алены Ивановны и др.). Во всех переводах Кэррик неэквивалентная замена маркированного глагола перегорает на погружается ( geht vor ) не позволяет показать глубину нравственной деградации общества. Элиасберг упускает выражение от бездействия (перегорает), поэтому проблема кризиса веры и истинной занятости у представителей молодого поколения не акцентирована в его варианте. Гайер, напротив, удалось добиться наиболее точного воспроизведения данного фрагмента на немецкий язык.
Символический сон Раскольникова, в котором признак «масштабность распространения кризиса» вербализуется с помощью обилия номинативных репрезентантов КП, указывающих на преступления, болезни и страдания, воспроизведен во всех интерпретациях максимально близко к оригиналу с учетом нюансов стиля Достоевского. Лишь в переводах Кэррик обнаруживается замена глагола резались ( кололись и резались ) на убивали ( töteten / mordeten ), что отчасти усиливает проявленность концепта «преступление» и интенсифицирует степень происходящих вокруг злодеяний.
Таким образом, в связи с недостаточным вниманием к модуляциям романного слова и идио-стилю автора в интерпретации Генкеля признак «масштабность распространения кризиса» воспроизведен с существенными потерями. Это не позволило переводчику в полной мере донести до читателя трагедию утраты православных первооснов и ее последствий, а также негативным образом отразилось на характере воссоздания образов Свидригайлова, Лужина, Раскольникова. В варианте Элиасберга при некоторых лакунах отмечено частичное усиление рассматриваемого признака, заостряющего внимание читателя на последствиях разрушительных тенденций, масштабно охватывающих все слои общества. Небольшие потери, обнаруженные в переводах Кэррик, привели к неполному воссозданию картины Петербурга, в котором господствует страсть наживы, распространяются болезни и нищета. Бережное отношение к слову Достоевского позволило Гайер наиболее цельно изобразить трагедию распространяющихся за пределы столицы безнравственных теорий и преступлений, а также воссоздать черты характера Лужина (индивидуализм, алчность и т. д.), подчеркнуть амбивалентость образа Свидригайлова, чуткость Раскольникова и его разочарованность в жизни.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРИЗНАКА КП «ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КОНЦА»
Следующий рассматриваемый признак КП «предопределенность конца» (темпоральная категория) актуализирует ощущение нарастающей катастрофы, предвещающей хаос24.
Уже в первой части романа перед переводчиками стоит задача воспроизведения нюансов наивысшего эмоционального напряжения Раскольникова, когда в его сознании прошлое, настоящее и будущее соединяются воедино:
«Впрочем, все эти вопросы были не новые, не внезапные, а старые, наболевшие, давнишние. Давно уже как они начали его терзать и истерзали ему сердце. Давным-давно как зародилась в нем вся эта теперешняя тоска, нарастала, накоплялась и в последнее время созрела и концентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя разрешения» (VI: 39).
«Ясно, что теперь надо было не тосковать, не страдать пассивно, одними рассуждениями о том, что вопросы неразрешимы, а непременно что-нибудь сделать, и сейчас же , и поскорее . Во что бы то ни стало надо решиться, хоть на что-нибудь…» (VI: 39).
В версии Генкеля и позднем переводе Кэррик (1953) вместо лексемы давнишние в первом предложении использованы слова alt / alte (старые). Генкель, Кэррик (1908, 1922) и Элиасберг упускают второй повтор в выражении давным-давно. Таким образом, кроме варианта Гайер, во всех переводах не передана цепочка (давнишние, давно, давным-давно, в последнее время), маркирующая длительность переживаний Раскольникова и под- черкивающая их связь с настоящими (теперешняя, теперь). Никому из переводчиков не удалось воспроизвести повтор в выражении терзать и истерзали (ему сердце), использование синонимичных замен привело к нейтрализации признака «мучение» концепта «наказание» и не позволило в полной мере акцентировать внимание немецкого читателя на ложных убеждениях Раскольникова в предопределенность судьбы и необходимость реализации преступления.
Во второй части романа в переводах необходимо воспроизвести нюансы словесного оформления признака «предопределенность конца»25, которые усиливают значимость проблемы выбора жизненных и ценностных ориентиров в судьбе Раскольникова26:
«Он не знал, да и не думал о том, куда идти ; он знал одно: “что всё это надо кончить сегодня же , за один раз, сейчас же; что домой он иначе не воротится , потому что не хочет так жить ”. Как кончить? Чем кончить? Об этом он не имел и понятия, да и думать не хотел. Он отгонял мысль: мысль терзала его. Он только чувствовал и знал, что надо, чтобы всё переменилось, так или этак, “хоть как бы то ни было”, повторял он с отчаянною, неподвижною самоуверенностью и решимостью» (VI: 120–121).
Во всех интерпретациях риторические вопросы и повторы частицы не , подчеркивающие дезориентированность Раскольникова и потерю им жизненных целей после совершенного преступления, переданы достаточно точно. В версиях Кэррик (1908, 1922) и Элиасберга пропущен повтор глагола кончить (кончить сегодня же), поэтому близость трагической развязки истории Раскольникова и испытываемый им страх (наряду с желанием поскорее избавиться от прошлого) не переданы. В трех ранних интерпретациях (Генкель; Кэррик, Феофанов; Кэррик) лишь однократно воспроизведено повторяющееся существительное мысль (мысль: мысль терзала его), подчеркивающее проблему осознанного выбора жизненного пути и личной ответственности за свои деяния. В варианте Генкеля отсутствует перевод лексемы самоуверенностью, маркирующей своеволие Раскольникова и его гордыню, ставшие причинами душевных переживаний, сравнимых с хождением по мы-тарствам27.
В шестой части романа перед явкой с повинной (встреча Родиона с родными и с Соней) переводчикам необходимо воспроизвести маркеры, указывающие на скорый финал истории Раскольникова (повторы, образы и др.28):
«Ему хотелось кончить все до заката солнца» (VI: 398).
«Поздно, пора . Я сейчас иду предавать себя. Но я не знаю, для чего я иду предавать себя» (VI: 399).
«Пора , очень пора» (VI: 400).
«Он вдруг почувствовал окончательно , что нечего себе задавать вопросы» (VI: 404).
Во всех интерпретациях точно воспроизведен образ заходящего солнца, символизирующий особое психологическое состояние Раскольнико-ва29 и указывающий на его дальнейшее духовное перерождение. Однако в варианте Генкеля вместо выражения для чего я иду предавать себя использовано почему я это делаю (weshalb ich es thue). Такая неэквивалентная замена разрушает смысл фразы: отсутствие повтора маркированного глагола предавать не позволяет подчеркнуть нравственный переворот и чувство обреченности Раскольникова, его потребность в «самоспасении»30. В последней фразе в двух ранних интерпретациях (Генкель; Кэррик, Феофанов) упущено слово вдруг, а Гайер не переводит лексему окончательно. Данные лакуны не позволяют донести до читателя характер спонтанного и в то же время решительного намерения Раскольникова покаяться и признаться в своем преступлении.
Таким образом, в ранних переводах обнаруживаются наибольшие потери при воспроизведении признака КП «предопределенность конца». В интерпретациях Генкеля и Кэррик, Феофанова (1908, 1922) не в полной мере переданы нюансы образа Раскольникова – его эмоциональное напряжение до и после преступления, фаталистическое следование ложным убеждениям. Небольшие переводческие потери, характерные для всех переводов, несколько сглаживают интенсивность душевных переживаний и жизненную дезориентированность героя.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРИЗНАКА КП «БЕГСТВО»
Во фрагментах романа, в которых проявлен признак «бегство», переводчикам необходимо показать желание героев покинуть Петербург и тем самым изменить судьбу31. Впервые проявление данного признака отмечено уже в эпизоде первой части произведения, в котором Раскольников совершает преступление:
«Он чувствовал, что теряется, что ему почти страшно, до того страшно, что кажется, смотри она так, не говори ни слова еще с полминуты , то он бы убежал от нее » (VI:62).
«Ему вдруг опять захотелось бросить всё и уйти . Но это было только мгновение ; уходить было поздно . Он даже усмехнулся на себя, как вдруг другая тревожная мысль ударила ему в голову» (VI: 62).
«Ему хотелось поскорее убежать отсюда » (VI: 65).
«“Боже мой! Надо бежать, бежать !” – пробормотал он и бросился в переднюю» (VI: 66).
Многократные повторы глаголов убежать (2), бежать (2) акцентируют внимание на потребности героя уйти от наказания и покинуть близких, а также его страхе. В переводах Кэррик (1908, 1922), Элиасберга и Гайер они последовательно заменяются синонимами fort von hier / fort (прочь отсюда / прочь) , что приводит к нейтрализации признаков «бегство» и «страх», указывающих на желание Раскольникова избежать расплаты за свой грех. В четырех ранних версиях упущено временное указание вдруг , поэтому во всех интерпретациях (за исключением версии Гайер) не столь очевидна лихорадочность мыслей героя и нарастающее в нем чувство тревоги. В варианте Элиасберга фраза тревожная мысль ударила ему в голову не переведена, что не позволило уточнить важные психологические детали образа Раскольникова в этот период: неосознанное, но внезапно проявленное на физическом и ментальном уровне неприятие идеи преступления, противоречащей его натуре.
Повторение мысли Раскольникова о бегстве обнаруживается во второй части романа после преступления32:
«А, вспомнил: бежать ! скорее бежать , непременно, непременно бежать ! <…> Да… а куда? <…> Я возьму деньги и уйду , и другую квартиру найму, они не сыщут!.. <…> Лучше совсем бежать… далеко … в Америку , и наплевать на них!» (VI: 100).
Генкель упускает повтор глагола бежать и наречия непременно , поэтому в его варианте одержимость героя идеей бегства не передана. Выражение наплевать на них в его версии эмоционально сглажено за счет использования замены пусть ищут меня там (mögen sie mich dort suchen) , что не позволяет переводчику донести до немецкого читателя нарастающую в Раскольникове отчужденность от общества и враждебность к людям. В варианте Гайер используемая фраза всех их оставлю с носом (allen eine Nase drehen) подчеркивает в большей степени его чувство гордыни и злости. Кэррик и Эли-асберг точно следуют оригиналу и не допускают переводческих потерь.
В четвертой части романа перед переводчиками стоит задача подчеркнуть значимость психологических переживаний преступника через точное воспроизведение нюансов речи Порфирия33:
«И какое мне в том беспокойство, что он несвязанный ходит по городу! Да пусть, пусть его погуляет пока, пусть; я ведь и без того знаю, что он моя жертвоч-ка и никуда не убежит от меня! Да и куда ему убежать, хе-хе! За границу, что ли? За границу поляк убежит, а не он, тем паче, что я слежу, да и меры принял. В глубину отечества убежит, что ли? Да ведь там мужики живут, настоящие, посконные, русские; этак ведь современно-то развитый человек скорее острог предпочтет, чем с такими иностранцами, как мужички наши, жить, хе-хе! Но это всё вздор и наружное. Что такое: убежит! Это форменное; а главное-то не то; не по этому одному он не убежит от меня, что некуда убежать: он у меня психологически не убежит, хе-хе! Каково выраженьице-то! Он по закону природы у меня не убежит, хотя бы даже и было куда убежать» (VI: 261–262).
Ни в одной из четырех ранних интерпретаций не воспроизведены значимые повторы глаголов убежит / не убежит. Поэтому в большинстве немецких переводов (за исключением варианта Гай-ер) не изображена словесная игра следователя, понимающего психологию преступника и нравственные качества Раскольникова, но при этом использующего приемы, направленные на истязание «своей жертвочки»34. Образ «глубины отечества», который отражает особенности исконных русских характеров (русских мужиков), для которых еще чужды новомодные теории и идеи, во всех интерпретациях воспроизведен без потерь.
В остальных фрагментах романа, в которых мотив бегства упоминается в диалогах Порфирия и Раскольникова, Свидригайлова и Раскольникова, повторы глаголов убежит / бежать во всех ранних интерпретациях также оказываются упущенными или замененными на синонимичные. Это влияет на степень воспроизведения особенностей образа Порфирия, а также Свидригайлова, призывающего бежать в Америку, но при этом строящего своеобразную «игру», предполагающую не движение к определенному топосу, а к самоубийству или к каторге.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно предположить, что в переводах романа «Преступление и наказание» на немецкий язык не должно быть явных потерь, связанных с объективацией признаков КП на уровне пространства и времени, поскольку отсутствуют явные отличия в осмыслении концептов «преступление» и «наказание» в русской и немецкой культурах35. Тем не менее проведенный анализ эпизодов, в которых актуализируются признаки «масштабность распространения кризиса», «предопределенность конца» и «бегство», обнаружил неточности и лакуны при их воспроизведении, что обусловлено сложной смысловой архитектоникой исследуемого произведения, а также особенностями идиостиля Достоевского.
В самом раннем переводе, выполненном Генкелем, признаки «предопределенность конца», «масштабность распространения кризиса» и «бегство» актуализированы с потерями, что не позволило донести до немецкого читателя мысль писателя о глубине кризиса, переживаемого русским обществом, показать трагедию утраты православных ориентиров (веры, соборности, милосердия), изобразить несостоятельность идеи бегства от наказания, подчеркнуть черты индивидуализма и своеволия в образах Раскольникова, Лужина, Свидригайлова. Лакунарность данного перевода может быть объяснена культурными традициями раннего этапа рецепции Достоевского в Германии, когда на особенности идиостиля автора не были принято обращать столь пристального внимания, как в более поздние периоды.
В переводах Кэррик, особенно ранней интерпретации (1908, 1922), в связи с нейтрализацией рассматриваемых признаков КП сглаживается интенсивность душевных переживаний Раскольникова, а также не переданы фаталистическое следование ложным убеждениям, его потребность в самоспасении и страх. Небольшие потери, обнаруженные в ее интерпретациях, привели к неполному воссозданию картины Петербурга, в котором происходят трагедии и драмы. Очевидно, что Кэррик проводит определенную редакторскую работу над последним вариантом своего перевода, что положительно влияет на характер понимания немецкими читателями православного «кода» произведения и образов персонажей.
В интерпретации Элиасберга некоторые переводческие потери отчасти компенсируются частичным усилением признака «масштабность распространения кризиса», обусловленным, вероятно, тем, что переводчик, имевший опыт проживания в России и переписки со многими русскими писателями, хотел как можно более убедительно показать глубину переломных трансформаций того периода времени.
В варианте Гайер отмечается положительная динамика передачи нюансов идиостиля писателя и воспроизведения признаков КП на уровне хронотопа и, как следствие, проблематики и аксиологического содержания романа. Ей особенно точно удалось изобразить трагедию распространяющихся за пределы столицы безнравственных теорий и преступлений, а также воссоздать негативные черты характера Лужина, подчеркнуть амбивалентость образа Свидригайлова, а также чуткость Раскольникова и его разочарованность в жизни.
Выявленные тенденции обусловлены не только личностями переводчиков и выбранными ими переводческими стратегиями, но и общим развитием немецкой филологической школы, а также характерными чертами культурно-исторического периода Германии.