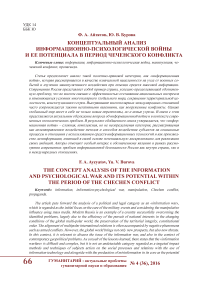Концептуальный анализ информационно-психологической войны и ее потенциала в период чеченского конфликта
Автор: Айзятов Фярит Ахметович, Бурова Юлия Владимировна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 (36), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья предполагает анализ такой политико-правовой категории, как «информационная война», которая рассматривается в качестве изначальной нацеленности на уход от военных событий и изучении манипулятивного воздействия при помощи средств массовой информации. Современная Россия представляет собой пример страны, успешно преодолевающей обозначенную проблему, что во многом связано с эффективностью отстаивания национальных интересов в изменяющихся условиях многополярного глобального мира, сохранении территориальной целостности, конституционного строя. Выстраивание многополярных международных отношений часто сопровождается такими негативными явлениями, как вооруженные конфликты. Однако глобальный мир несет в себе не только новые перспективы, но и новые угрозы. В связи с этим представляется актуальным обсуждение вопроса об информационной войне и в контексте современных геополитических проблем. В результате обобщенного опыта утверждается, что «информационная война» - сложная, комплексная, но не неопределяемая категория, рассматриваемая как целенаправленное воздействие методов и способов воздействия субъектов на социальные процессы и отношения с использованием средств информационных технологий и как производство дезинформации, имеющей в своей основе потенциальную дискредитацию для реализации своих амбиций. Авторы отмечают особый интерес к обозначенному явлению в рамках рассмотрения современных проблем информационной безопасности России как внутри страны, так и в международных отношениях.
Информация, информационно-психологическая война, манипуляция, чеченский конфликт, пропаганда
Короткий адрес: https://sciup.org/14720955
IDR: 14720955 | УДК: 14
Текст научной статьи Концептуальный анализ информационно-психологической войны и ее потенциала в период чеченского конфликта
The article puts forward the analysis of a political and legal category as an «information war», which is regarded as the initial focus on the care ofthe military events and considering the manipulative influence using mass media. Modern Russia is an example of a country successfully overcoming the identified problems, largely due to the efficiency of the pursuit of national interests in the changing conditions of the global multi-polar world, the preservation of the territorial integrity, constitutional order. The alignment ofmultipolar international relations is often accompaniedby negative phenomena such as armed conflicts. However, the global worldbrings not only newprospects, but also new threats. In this context, it is relevant to discuss the issue of the information war, and also in the context of contemporary geopoliticalproblems. As a result ofthe lessons learned, there states thatthe «information warfare» is difficult and complex, but it is not an undetectable category regarded as a targeted impact methods and techniques of subjects action on the social processes and relations with the use of information technology and alongside with the production ofmisinformation in its core as the potential
№ 4 (36), 2016
discredit to realize their ambitions. The authors note a particular interest in the phenomenon designated as a part ofthe consideration ofmodern problems ofRussian information security, both domestically and in international relations.
В настоящее время при освещении военных событий определяющей становится не объективная информация, которая изначально должна превалировать по праву истины. Военные кампании во многом ставят своей целью манипулятивное воздействие при помощи дезинформации, разнонаправленного характера. В связи с этим появляется новый концепт информационной войны, в своей основе опирающейся на технологии информационно-психологического воздействия, что во многом становится одной из главных угроз национальной безопасности. Война подобной этиологии протекает по двухуровневой схеме – боевые действия вооруженных сил и производство дезинформации, имеющей в своей основе потенциальную дискредитацию для реализации своих амбиций. Таковым образом реализовала себя война в Ираке, Грузии, Украине и т. п.
Отечественная практика применяет такой термин, как «информационная война», который реализуется в рамках юриспруденции, политологии, социологии, философии. При этом учеными подчеркивается неоднозначность позиции в связи с анализом и определением данного явления. М. Маклюэн подчеркивает значение информации в качестве оружия «…истинно тотальная война – это война с помощью информации» [2, с. 211]. В этом случае информация способна создавать и разрушать.
Д. А. Швец подразумевает под информационной войной коммуникативную технологию воздействия на информацию и информационные системы противника для достижения информационного превосходства. Так реализуются интересы национальной стратегии, нацеленные на одновременную защиту собственной информации и информационных систем [10, с. 23].
В. Э. Разуваев рассматривает основные признаки, присущие информационной войне, ее цели, средства и последствия ведения. Для него информационной войной считается нацеленное воздействие субъектов на социальные процессы и отношения, когда используются информационные технологии, информационные ресурсы и коммуникации, осуществляе- мые путем создания факторов торможения, трансформации информационной, экономической и политической стабильности государства, общества, человека [7, с. 13].
Г. Л. Тульчинский считает информационную войну конфликтом, когда стороны проявляют агрессивную активность, применяя вместо оружия информацию. Он отмечает два вида информационной войны. Первая предполагает наличие действий, направленных на разрушение или повреждение информационных центров, центров принятия решений противника. Вторая предполагает наличие информационного воздействия на систему убеждений, представлений, ориентаций, стереотипов противника. Это смысловые войны, которые отличаются от пропаганды и манипуляции тем, что преследуют более «сильные» практические цели, стимулируют действия, направленные на решение конкретной проблемы. Подобный тип информационной войны отличается неясностью для их авторов и участников [9, с. 252]. Так можно обозначить два направления информационной войны, реализуемые как отдельно, так и параллельно: война информационно-технического воздействия и война информационно-волевого воздействия на разум. Второе направление рассматривает Г. Г. Почепцов, который анализирует информационную войну и развивает идею достижения национальных целей с помощью преподнесения информации. В этом случае информационная война касается идей эпистемологии. Цель информационной войны – влияние на человеческий разум. В этом аспекте важно отметить необходимость изменения и переоценки высших ценностей. Объектом войны является принудительное подчинение оппонента воле противника. Базой для ведения войны является знание ценностей противника и использование его репрезентативной системы. Это делает возможным соотношение ценностей, влияющих на вербальный и невербальный уровень.
Информационная война является сложной категорией, которая находит отражение на нормативном уровне. Однако этот аспект долго был неопределенным. Основой для рассмотрения информационной войны является Конституция РФ, в которой в ст. 29 гарантируются свобода мысли и слова, запрет пропаганды или агитации, возбуждающей социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
Определение информационной войны закреплено в Конвенции об обеспечении международной информационной безопасности в контексте рассмотрения угроз информационной безопасности государства, когда информационная война определяется в качестве действия в информационном пространстве, цель которого – подрыв политической, экономической и социальной систем другого государства. Здесь предполагается психологическая обработка населения, что дестабилизирует общество. В связи с этим информационной войной становятся как противоборство двух и более государств в информационном пространстве.
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации утверждает наличие внешних и внутренних угроз информационной безопасности нашего государства и считает информационную войну внешней угрозой.
Отметим тот факт, что в сфере международно-правового регулирования информационно-психологические операции, которые в последние годы все чаще осуществляются именно посредством информационнокоммуникационных технологий, определены достаточно узко. Желание внести эти темы в круг вопросов обеспечения информационной безопасности рассматривается как угроза «свободе слова» и попытка оказать давление на «гражданское общество». Психологическая составляющая информационной войны не находит должного отражения на уровне терминологии. При всем том обозначенное нами явление изначально было определено в рамках термина «information and psychological warfare», который был приемлем, прежде всего, в военных кругах США, а в дальнейшем воспри-нялся русским языком как «информационнопсихологическая война». Потенциально информационно-психологическая война должна решить проблему вытеснения традиционного вооруженного противостояния, так как в рамках внешней политики государства появилась способность управлять миром без применения армии и полиции, используя информацию и ее коммуникативную способность. При этом дестабилизация государства становилась возможной благодаря использованию двух основных составляющих: номинативной информации и коммуникативной (психологической). Это позволяет нам говорить о целесообразности пересмотра определения, обозначенного в Конвенции об обеспечении международной информационной безопасности и необходимости закрепления его на уровне национального законодательства.
Кроме того, во многом неоднозначное отношение вызывает и то, что информационная война часто определяется как борьба двух или более государств в информационном пространстве для нанесения ущерба информационным системам друг друга. Считаем, что при законодательном закреплении категории «информационная война» необходимо учесть неоспоримый факт наличия признаков ведения информационных войн и внутри государства для достижения противоправных целей.
Законодательное закрепление отражает и наличие информационногопротивоборствавнутри самого государства и способы противостояния им. В связи с этим важными становятся средства и методы информационно-психологического воздействия в период чеченской войны, которые имели наиболее опасные последствия, так как осуществлялись насильственными средствами и способами, воздействующими на информационно-психологическую сферу противника с целью решения стратегических задач. При этом главной и основной задачей явилась дестабилизация России.
Рассматривая чеченский конфликт, Г. Н. Трошев отмечает: «Информационный компонент в современных вооруженных конфликтах способен серьезно влиять на развитие событий. Мы имеем в этом отношении свой опыт. И горький, и положительный... Неоперативное, некачественное, порой сумбурное информирование общественности в первой чеченской кампании сегодня практически возведено в ранг хрестоматийного примера порочной работы силовых ведомств с прессой. Что бы там ни говорили о войне 1994–1996 гг., убежден: проиграли ее не военные, которые находились в окопах и боролись с бандитами, а политики и те, кто отвечал за информационное обеспечение операции «по восстановлению конституционного порядка». Какие только сказки и небылицы не рождались в той войне! Увы, информационные «утки» почти никто не опровергал. Потому и живучи мифы о «бездарности» Российской армии. Военные, за редким исключением, боялись журналистов. А те, в свою очередь, нередко выплескивали на страницы своих изданий и на экраны телевизоров, мягко говоря, непроверенную, а то и откровенно лживую информацию. Отсутствие здесь четкой системы взаимодействия приводило к информационной вакханалии, когда у каждого журналиста была «своя правда» [8].
Подобная техника реализовалась в деятельности Мовлади Удугова, явившегося одним из известнейших чеченских сепаратистов, непревзойденным пропагандистом чеченской национальной революции. Он смог в одиночку выиграть информационную войну в 1994–1996 гг. у бойцов идеологического фронта Российской Федерации. «Хотя вернее было бы сказать, не столько он выиграл информационные бои, сколько мы их проиграли, особенно в начале первой чеченской кампании» [8].
Его деятельность во многом базировалась на принципах, изложенных Йозефом Паулем Геббельсом – министром народного просвещения и пропаганды нацистского правительства Германии. Сегодня идеи Геббельса, направленные на манипуляцию сознанием, оказывают существенное влияние на самые разные области человеческого бытия: от информационно-психологических войн мирового масштаба до коммерческой рекламы.
Геббельс формулирует основные принципы пропаганды.
-
1. Пропаганда должна быть централизованной и четко спланированной.
-
2. Истинность и ложность идеи определяется авторитетом центра.
-
3. Черная пропаганда используется, когда белая менее возможна или дает нежелательные эффекты.
-
4. Пропаганда должна характеризовать события и людей отличительными фразами или лозунгами.
-
5. Для лучшего восприятия, пропаганда должна вызывать интерес аудитории и передаваться через привлекающую внимание среду коммуникаций.
Пропаганда Геббельса отличалась беспредельным цинизмом в выборе средств. Он пер- вый разделил пропаганду на белую (достоверную информацию из официальных источников), серую (сомнительную информацию из неясных источников) и черную (откровенную ложь, провокации и т. д.). То или иное искажение информации – характерная черта любой пропаганды. Основой информационно-психологической войны становится тезис: «Мы добиваемся не правды, а эффекта». Именно он был реализован Мовлади Удуговым, когда он в самом начале чеченской войны сформулировал план идеологических диверсий против Российской армии. В основе лежал тезис об особой роли газет, радио, телевидения как боевых средств ведения идеологической войны, что основным в предстоящей работе должно стать не информирование отечественной и зарубежной общественности о происходящих событиях, а «создание самих событий». Это предполагало необходимость реализации преднамеренного обмана, дезинформации людей с целью формирования нужных условий для функционирования чеченской элиты, сумевшей в своих руках сосредоточить власть, деньги и оружие.
Особую остроту информационные войны имеют в современном обществе, которое имеет признаки информационного. Обилие информации сочетается с нормативной безграмотностью населения. Е. А. Коваль отмечает, что «в условиях, когда информация в любом объеме доступна большинству, знания о содержании различных социальных норм у этого большинства довольно скромные. У современного человека ослаблена потребность в познании того, что есть законность, права и обязанности, справедливость, долг, совесть, убеждение, вера, благочестие и т. д.» [1, с. 72]. Вполне логично, что в подобной ситуации эффективность информационной войны может значительно превышать эффективность вооруженного противоборства сторон. Современная информационная война становится результатом технологического, экономического, политического, демографического изменения в обществе. Составляющие войны зависят от развития средств и способов ведения войны. В этом процессе на смену периода стратегической и технической стабильности приходят внезапные изменения [4, с. 35].
Рассмотрение обозначенного нами феномена возможно в рамках термина «information and psychological warfare», который был при- емлем, прежде всего, в военных кругах США, а в дальнейшем воспринялся русским языком как «информационно-психологическая война». Потенциально информационнопсихологическая война должна решить проблему что полностью вытеснит традиционное вооруженное противостояние. В рамках внешней политики США появилась способность управлять миром без применения армии и полиции, используя информацию и ее коммуникативную способность.
Если сегодня говорить об информационном противодействии, то следует остановиться на факторах информационного противодействия, которыми в настоящее время становятся следующие.
-
1. Поддержание исторической осведомленности о преступлениях террористического характера, и их влиянии на судьбу.
-
2. Недопущение героизации террористов.
-
3. Поддержание светлой памяти о борцах с терроризмом.
-
4. Развитие системного мышления, в частности способности грамотно и комплексно оценивать последствия того или иного исторического выбора на политическую, экономическую, духовную жизнь страны.
-
5. Развитие критического мышления, способности противостоять манипуляции сознанием.
Сегодня мы с абсолютной уверенностью можем утверждать, что «информационные войны» имеют место как категория, явление, процесс, технология и оказывают достаточно сильное воздействие на государственные, межгосударственные и общественные отношения на разных уровнях, являются угрозой в информационном пространстве, приводящей к нарушению международного мира и безопасности.
Обозначенная проблематика позволяет говорить о необходимости формирования системного подхода к вопросам закрепления категории «информационная война» и механизма противодействия информационным войнам в законодательстве Российской Федерации. Считаем, возможным учесть следующие выделенные нами характерные признаки исследуемого явления: во-первых, это целенаправленное воздействие с применением информационного оружия, в качестве которого неправомерно используются информационные и коммуникационные технологии, информационные ресурсы. При этом воздействие может быть направлено как на другое государство (или даже несколько государств), так и на достижение противоправных целей внутри страны. Во-вторых, информационное воздействие осуществляется как минимум по двум направлениям: разрушение или повреждение информационной инфраструктуры противника и воздействие на его сознание, когда целью является человеческий разум или сложившаяся в обществе и поддерживаемая государством идеология. В-третьих, невозможность определить границы и сроки ведения военных действий, не явное и не четкое проявление вооруженноинформационного противоборства при огромной области и степени поражения. Данная характеристика, на наш взгляд, является одной из самых сложных для ее легитимного закрепления и формирования эффективного механизма защиты интересов России внутри страны и на международном уровне. Данную задачу необходимо решить уже сегодня с учетом развития политических событий на современном этапе и действенной оценки ошибок на уровне законодательства и его практического применения.
Список литературы Концептуальный анализ информационно-психологической войны и ее потенциала в период чеченского конфликта
- Коваль Е. А. Ненормативная моральная мотивация/Е. А. Коваль//Историческая и социально-образовательная мысль. -2014. -№ 3 (25). -С. 271-275.
- Маклюэн М. Понимание медиа/М. Маклюэн. -М.: Кучково поле, 2007. -464 с.
- Панарин И. Н. Информационная война и выборы/И. Н. Панарин. -М.: Городец, 2003. -416 с.
- Почепцов Г. Г. Информационные войны/Г. Г. Почепцов. -М.: Рефл-бук, Ваклерс, 2000. -576 с.
- Почепцов Г. Г. Информационные войны: тенденции и пути развития /Г. Г. Почепцов. -Режим доступа: http://psyfactor.org/lybr62.htm. -Загл. с экрана.
- Почепцов Г. Г. Психологические войны/Г. Г. Почепцов. -М.: Рефл-бук, Ваклерс, 2002. -526 с.
- Разуваев В. Э. Правовые средства противостояния информационным войнам: автореф. дис.. канд. юрид. наук/В. Э. Разуваев. -М., 2007. -24 с.
- Трошев Г. Н. Моя война. Дневник чеченского генерала /Г. Н. Трошев. -Режим доступа: http://lib.ru/MEMUARY/CHECHNYA/troshew.txt. -Загл. с экрана.
- Тульчинский Г. Л. Информационные войны как конфликт интерпретаций, активизирующих «Третьего»/Г. Л. Тульчинский. -М.: РАН ИНИОН, 2012. -336 с.
- Швец Д. А. Информационное управление как технология обеспечения информационной безопасности/Д. А. Швец//Массовая коммуникация и массовое сознание. -М.: МГИМО, 2003. -С. 43-58.