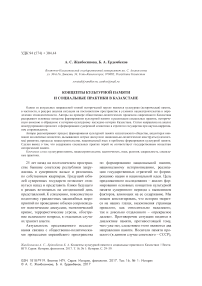Концепты культурной памяти и социальные практики в Казахстане
Автор: Жанбосинова Альбина Советовна, Ердембеков Бауржан Амангельдыевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Одним из актуальных направлений «новой исторической науки» является культурная (историческая) память, в частности, в ракурсе анализа ситуации на постсоветском пространстве в условиях нациестроительства и определения этноидентичности. Авторы на примере общественно-политических процессов современного Казахстана раскрывают основные концепты формирования культурной памяти и реализации социальных практик, историческую амнезию и обращение к историко-культурному наследию истории Казахстана. Статья направлена на анализ конструирования прошлого и формирования суверенной семиотики в стратегии государства при научно-нарративном сопровождении. Авторы рассматривают процесс формирования культурной памяти казахстанского общества, акцентируя внимание на ключевых концептах, вызывающих острые дискуссии: национально-политические конструкты (идеологемы) развития, процессы нациестроительства, национальный язык и проблемы формирования культурной памяти. Сделан вывод о том, что содержание социальных практик порой не соответствует государственным концептам исторической памяти.
Культурная память, нациестроительство, идентичность, язык, религия, сакральность, социальные практики
Короткий адрес: https://sciup.org/147219695
IDR: 147219695 | УДК: 94
Текст научной статьи Концепты культурной памяти и социальные практики в Казахстане
25 лет назад на постсоветском пространстве бывшие советские республики закружились в суверенном вальсе и разошлись по собственным квартирам. Грядущий юбилей суверенных государств позволяет оглянуться назад и представить блики будущего в рамках возможных на сегодняшний день представлений. К сожалению, повсеместную подготовку грандиозных масштабных мероприятий по проведению юбилея сопровождают политические дискуссии, экономический кризис, террористические угрозы, обострение исламского вопроса, в отдельных случаях транзит власти.
Актуальность предложенного исследования связана с общественно-политическими процессами евразийского пространства по формированию национальной памяти, национальному историописанию, реализации государственных стратегий по формированию нации и национальной идеи. Цель предложенного исследования – анализ формирования основных концептов культурной памяти суверенного периода с выявлением факторов, влияющих на ее содержание. Мы можем констатировать, что история творится на наших глазах, видоизменяя страницы прошлого, как относительно недалекого, так и довольно отдаленного – «прекрасное далеко». Противоречие ситуации видится в диалектике памяти, противостоящей тому, чего уже нет, следствием этого являются два направления памяти. Носители памяти прошлого (в данном случае советского – СССР),
Жанбосинова А. С., Ердембеков Б. А. Концепты культурной памяти и социальные практики в Казахстане // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 1: История. С. 29–39.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 1: История
как первое направление, не могут смириться с ее трансформацией, искажением, фальсификацией, неприятием. Представители суверенной памяти (времени становления суверенной республики), как второе направление, несут лишь символы, семиотику суверенной истории, находясь в полном антагонизме к советскому прошлому. Столь явное противоречие рождает причудливые формы памяти о прошлом: ностальгию по советскому времени через мнемонические онлайн-сообще-ства, формирование современной семиотики Великой Отечественной войны в обществе, всплеск мусульманского ренессанса в евразийском пространстве, мифологизацию национальной истории с обязательным удрев-нением, и пр.
На текущем этапе в национальных республиках, несмотря на 25-летний возраст, до сих идут процессы поиска собственной идентичности, правительственные структуры прилагают массу усилий по разработке различного рода документов.
Современные научные изыскания по проблематике «культурной (исторической) памяти» – свидетельство формирования междисциплинарных подходов и методологии социально-гуманитарных исследований. Теоретико-методологические концепты «коллективной памяти» заложены М. Хальбваксом [2005], «культурной памяти» – Я. Ассма-ном [2004]. В первом случае коллективная память – это результат проекции коллектив-индивид, во втором – семиотика истории памяти.
Источниковую базу исследования составили в первую очередь монографические издания методологического характера, научные публикации историографического плана, прямо либо косвенно затрагивающие предложенную проблематику, а также материалы государственных сайтов Казахстана в ракурсе анализа сегмента национального наследия. В условиях реализации государственных программ: «Государственная программа “Мәдени мұра” – Культурное наследие Казахстана», «Патриотический акт – “Мәңгілік Ел”», «Программа исторических исследований “Народ в потоке истории”», правительство Казахстана инициировало создание тематических сайтов. Несомненным плюсом созданных интернет-ресурсов явля- ется их информационное содержание, состоящее из специальных научно-исторических блоков, начиная от казахстаники и заканчивая мировой историей. На государственном уровне созданы уникальные мультимедийные информационные порталы, отличающиеся транспарентной авторской культурой, являющиеся мощным каналом для формирования культурной памяти казахстанского социума. Следует отметить, что партнерами указанных интернет-ресурсов являются научно-исследовательские, образовательные учреждения, государственные архивы, библиотеки, весь представленный материал проходит независимую экспертизу.
Поиск новой идентичности мобилизует культурную и историческую память, но прежде, чем говорить о ее содержании в Казахстане, следует остановиться на терминологии. По словам французского историка Пьера Нора, потребность в памяти есть потребность в истории. «Всe, что называют горением памяти, есть окончательное исчезновение ее в огне истории» [1999. С. 28].
Н. Кочеляева полагает, что память действительно «живой организм», отождествляемый с «различными группами» людей, она, т. е. память, «не всегда удобна» в современном обществе, так как оно не готово понять и простить [2015]. Ввиду отсутствия рикеровской интерпретации понимания и прощения, можно указать на опасности манипулирования исторической памятью, где последняя становится информационным инструментом в политической игре. В ракурсе междисциплинарных исследований и актуализации формата применяемых терминологий можно определить следующие понятия, с которыми мы столкнемся: «коллективная память», «коллективные воспоминания», «забвение прошлого», «ностальгия по прошлому», «рессентимент», «культурная память», «историческая память». Понятия, связанные с термином «память», многогранны и содержательно обширны.
Известный французский историк Б. Гене писал: «Социальная группа, политическое общество, цивилизация определяются, прежде всего, их памятью, т. е. их историей, но не той историей, которая была у них в действительности, а той, которую сотворили им историки…» [Репина, 2003. С. 9]. Со- временная историография особое внимание уделяет исторической (культурной) памяти, трансформации поколенной памяти и ее образов. Историческая память – это своего рода архивный комод с функциями хранения, трансляции, репрезентации, ориентации и самоидентификации личности, коллектива в бушующем океане информационных волн. Историческая память несет в себе заряд идеологии, ментальные образы, жизненный опыт, комплексы, символы, предрассудки и многое другое, так как она представлена общественным сознанием, подверженным манипулированию.
Мы не можем не отметить, что советская история на постсоветском пространстве и отдельно взятая национальная история бывших республик СССР на текущем этапе подвержены концептуальной фильтрации содержания.
Предметом критики в советской истории была колониальная политика Российской империи на ее окраинах, объектом критики национальной истории продолжает оставаться колониальная политика, но уже СССР. К сожалению, проект типовой программы по дисциплине «Современная история Казахстана», введенной взамен «Истории Казахстана», перенасыщен идеологемами: «Колониальное содержание индустриализации в Казахстане», «Великодержавная основа и последствия классово-партийного принципа в общественно-политической жизни, культуре, образовании и науке, а также в национальном вопросе Казахстана», «Административно-территориальное деление Казахстана – шаг, ведущий к тоталитарному правлению», «Непризнанные подвиги казахстанцев – яркий пример несправедливости советской власти», и т. д. Новые подходы к оценке советского прошлого, отдельные попытки кардинально видоизменить советское историописание обуславливают интерес и необходимость изучения памяти о прошлом у непосредственных участников, современников, опираясь на методику изучения устных воспоминаний. Советская история – это история структур, сакральные, визуальные образы, сформированные специально созданными историко-культурными учреждениями, которые также осуществляли контроль за хранением и трансляцией образов. Цен- ностные ориентации, формируемые государством на современном этапе, корректируют содержание исторической памяти прошлого в условиях суверенного развития, что, в свою очередь, создает фундамент культурной памяти молодого суверенного государства. Содержание культурной (исторической) памяти с учетом вышесказанного должно соответствовать общей стратегии развития государства. Наблюдается процесс формирования культурной памяти на государственном уровне.
Предпримем попытку рассмотреть процесс формирования культурной памяти казахстанского общества, акцентируя внимание на ключевых концептах, вызывающих острые дискуссии. В первую очередь это национально-политические конструкты (идеологемы) развития, процессы нациестрои-тельства, национальный язык и проблемы формирования культурной памяти.
Одной из основных проблем суверенного состояния государств постсоветского пространства явилось нациестроительство, что абсолютно верно было подмечено Д. Летня-ковым в исследовании вопроса о содержании государственной политики: «…The invention (or fundamental revision) of the historical narrative, the invention of a particularist cultural and political tradition, the active use of postcolonial discourse and an ideology of ethnical national-ism…» [Letnyakov, 2016. P. 144].
Вопросы нациестроительства и формирования национальной идентичности в Казахстане с учетом этнической палитры республики отличаются некоторым своеобразием. В первую очередь своеобразие видится в демографической географии – в некотором противопоставлении северо-востока юго-западу Казахстана. Ввиду перенаселенности юго-западного региона и, как следствие, безработицы, правительство стимулирует внутреннюю миграцию населения из южных областей республики в северо-восточные. Также несомненным фактом является наличие в казахстанском социуме двух сфер: казахско-язычной и русскоязычной, которые, как две прямые, не пересекаются, но вместе с тем имеют точки для соприкосновения. Уникальность данной ситуации великолепно рассмотрена в монографии А. Н. Алексеенко [2016].
К слову сказать, мы можем обратиться к советской идентичности, которая в ин-тернет-пространстве обозначена слоганом: «Мы родом из СССР», «Я родом из СССР», «Я родился в СССР» и пр. Причина ностальгии по родине СССР у тех, кому «за 40», видится в наличии социальной неустроенности и незащищенности, дефиците добра и душевности у современного социума, крахе иллюзорных и обманчивых представлений относительно западного образа жизни, к которому стремились при наличии «железного занавеса». Вероятно, к этому следует добавить мироощущение представителя великой державы, с которой считались, которую уважали, за которую была гордость. Мы не претендуем на всеохватность выявления причин, хотя заметим, что попытка их выяснения в ходе контент-анализа «Post-Soviet nostalgia and national identity in Russian online communities», как самого распространенного онлайн-сообщества в Интернете, уже была предпринята отдельными авторами [Kalinina, Menke, 2016]. Возможно, права Л. Мазур, что ностальгические настроения культивируются средствами массовой информации, создаются мифы о советской истории как «золотом веке» [Mazur, 2005].
Процессы формирования национального государства и нации апеллируют к языку, истории, культурной памяти, создают новые государственные символы и новообразования. Потребность в сохранении единого государства и лояльность настроений казахстанского социума позволила избежать центробежных тенденций, а где-то рождалась идеология национализма и возникали вооруженные конфликты или гражданская война. Казахстан переживает процессы самоидентификации, решая вопрос, к кому себя относить: к казахстанцам, к титульному этносу, к этническому меньшинству? В казахском этносе существует условная терминология, ее можно принять как некий идентификатор – «нагыз-казахи», дословно «настоящие казахи», «шала-казахи», интерпретация перевода от «половинчатые казахи» до «ненастоящие казахи». Отличием между ними служит уровень владения родным языком, что не вызывает особых конфликтов. Парадоксальность ситуации в том, что на 25-м году суверенности мы имеем казахов, которые совершенно не говорят по-русски, и есть казахи, которые не говорят на казахском языке. Столь явное внутриэтническое расслоение не вызывает проблем, толерантность на уровне ментальности обуславливает своеобразие казахского общества. Этнические группы, которые проживают в Казахстане, с перспективой на будущее отдают своих детей в казахско-язычные садики и школы.
Выдержанная государственная политика – с одной стороны, процессы лингвопространственной глобализации – с другой, обусловили реализацию казахстанской полиязыковой программы. Указанная программа не вызывает особого восхищения в обществе, особо продвинутые с учетом реализации трехступенчатой программы Болонского процесса предвидят сегрегацию социума. Реформации образовательного процесса, по мнению государственных мужей, должны способствовать формированию кросс-культурной и полиязычной личности как основы конкурентоспособного государства. Вместе с тем в образовательной сфере можно наблюдать тренд уменьшения численности обучающихся на русском языке; на наш взгляд, это можно объяснить цитатой Э. Хобсбаума: «Потребность в национальном языке проявляется тогда, когда простые граждане становятся важной составляющей государства» [2005. С. 51].
Национальный язык и культурная память казахов и других этносов, населяющих Казахстан, имеют причудливые очертания, они формировались под воздействием событий прошлого и трансформировались в условиях суверенного развития. Территория Казахстана ввиду транзитно-пограничного состояния обусловила уникальность содержания культурной памяти, интерпретация и преемственность которой отголосками и всполохами выплескивается в современной культуре. Мы можем говорить о некоторой «стратегии присвоения» этническими группами (термин, введенный российским историком И. Савельевой) элементов чужеродной для них мифической истории, ввиду существования когда-то в прошлом тесных этнокультурных связей в территориальном пространстве Казахстана (примеров множество, с опорой на события из истории Средневековья и Нового времени).
Культурная память в условиях суверенного Казахстана о недавнем советском прошлом старательно вымывается новыми воспоминаниями, которые можно обозначить как семиотику суверенного Казахстана о советской истории. К ним можно отнести: знаки надрыва и торжественную пафосность воспоминаний о жертвах коллективизации, советской индустриализации, сталинских репрессий; интерпретанту с бликами национальных обид за «колониальное прошлое в составе СССР»; активную ономастическую революцию по смене советских названий; формирование новых знаков мемориальной культуры, связанных с этнической историей; нарративную революцию.
Вышесказанное (учитывая сакральность культурной памяти на современном этапе развития Казахстана) обусловило формирование ее содержания на государственном уровне, что придало ей политическую значимость, создало своего рода две категории в обществе, из которых первая создает содержание, она в некотором меньшинстве, вторая же должна усвоить содержание, она в большинстве.
Политизация культурной памяти граждан современного Казахстана отражается в принятии и реализации государственных программ, таких как «Народ в потоке истории», «Культурное наследие», «Патриотический акт» 1. Мы не можем не отметить масштабность юбилейных мероприятий, связанных с государственной семиотикой, знаковыми событиями государственного строительства, персональной историей, и пр.
Мы можем принять и понять такие программы, так как в теоретических положениях их содержания заложена масштабность и научная значимость, соответствующая запросам времени и состоянию научной мысли. Вместе с тем когда нарративный сюжет становится методологическим концептом культурной памяти при наличии сомнений самого автора (запись Мухаммада Хайдара о дате становления Казахского ханства и его же фраза «Аллах лучше знает»), то здесь изначально ставится знак вопроса, что превращает науку «история Казахстана» в интерпретацию, историческая репрезентация уходит на задний план. Историописание многих казахстанских авторов страдает тем, что историческое воображение (Хейден Уайт) имеет национальный уклон и оторвано от всемирно-исторического процесса, порой мы можем наблюдать манипуляции с временными рамками исторических событий. В унисон реализуемым программам звучит фраза из доклада экс-госсекретаря Республики Казахстан М. Тажина: «Неужели можно без критического анализа принимать в качестве истины в последней инстанции свидетельства о казахской истории, насквозь пропитанные европоцентризмом иностранных купцов, разведчиков, военных или географов? Мы должны серьезно переосмыслить все эти источники, понимая с высоты современной науки, что они часто не выдерживают никакой критики по стандартам сегодняшнего дня» 2.
Существует мнение, что принятие такого рода программ на государственном уровне в условиях глобализации мирового процесса сохранит этнокультурный код, усилит родовые корни, зов родины. При территориальной масштабности родины, оставленной нам предками, и имеющихся демографических показателях современного Казахстана существуют косвенные проблемы, имеющие непосредственное отношение к формированию национальной идеи. Национально-патриотический акт «Мәңгілік Ел» – «Вечный народ», скажем, можно считать попыткой заполнить пустующую еще со времен распада СССР идеологическую нишу. Очень осторожно в оценке акта «Мәңгілік Ел» – «Вечный народ» высказались российские эксперты, одни увидели в нем угрозу отхода Казахстана от России, другие – фактор укрепления нации и государства.
Результативность реализации принятых программ вылилась в получение пяти тысяч документов, затрагивающих историю прошлого нашей страны, полученных в ходе работы профинансированных научных экспедиций в архивах зарубежных стран.
Следующей составляющей культурной памяти является праздник, который, по Я. Ас-сману, гарантирует групповую идентичность ввиду своей первичности. События далекого детства всплывают в нашем сознании через праздничные мероприятия, некоторые из них носили сакральный характер, были идеологизированы, вместе с тем несли в себе положительную, позитивную динамику.
Формирование суверенных государств внесло коррективы в праздничный календарь республик, видоизменились «старые», появились «новые» праздничные даты. Современная праздничная культура закладывает содержание в формирование культурной памяти, основываясь на глубинных слоях ментальной памяти и на этноидентифицирующих элементах текущего восприятия событий. Имеющийся ранее фон традиционно-праздничных концептов – с одной стороны, конструкция новых праздничных структур – с другой, приводит к забвению одних праздников и появлению иных. К сожалению, порой происходит преднамеренное вымывание исторической памяти, так как они могут не вписываться в современную идеологию государства, как, например, это произошло с праздником 9 мая. На примере Казахстана можно увидеть, что в праздничном календаре остались встреча Нового года 1 января, 8 марта, 1 мая, 9 мая. Правда, 1 мая сменило вывеску – стало Днем единства народа Казахстана. Это вполне логичный закономерный процесс замены культурного кода, последующая его мифологизация, осовременивание. Согласно логике развития суверенного пути, в Казахстане появились новые праздники: Наурыз мейрамы – 21–23 марта, День защитника Отечества – 7 мая, День Столицы – 6 июля, День Конституции Республики Казахстан – 30 августа, День Первого Президента Республики Казахстан – 1 декабря. Забытые массовые гуляния советской эпохи активно возрождаются, они должны стать свидетельством этнического единства и форматом новой культурно-исторической общности – народа Казахстана, граждан Казахстана. Семиотика праздничных событий отражается не только карнавальным шествием с казахстанской символикой, но и органи- зацией этнических площадок с иллюстрациями, демонстрацией предметов этнографии, национальной кухни и пр.
Анализ всех праздничных дней займет слишком много места, поэтому хотелось бы остановиться на 9 мая, ввиду наглядной трансформации его содержания, мемориа-лизации и формирования нового слоя культурной памяти о трагических событиях того времени. Не секрет, что 9 мая стало инородным праздником во многих республиках постсоветского пространства. Информационное поле исторической памяти по событиям Второй мировой войны и, в особенности, Великой Отечественной войны, как ее составной части, страдает амнезией и кардинальной перетасовкой фактов. Безмолвными свидетелями той войны остаются фотодокументы, устные воспоминания, письма, они кричат о горе и страданиях, они сообщают о победе над фашизмом. Выросло новое поколение, которое уже не знает, что их прадеды воевали за родину, которой уже нет, и с фашизмом, который вновь возродился. Приятно осознавать, что сформировался новый слой культурной памяти о Великой Отечественной войне. Аутентичность памяти о войне у советского народа сложилась на базе прямого участия в военных действиях, на поколенной взаимосвязи, фильмах и книгах о войне. Поколение нынешних лет практически не читает, знает о войне из просмотра современных блокбастеров.
Семиотика памяти о войне видоизменилась, в майские дни на улицах казахстанских городов на машинах появляются фразы-слоганы «Спасибо деду за победу», «Помним! Гордимся!». Суть: я не видел, но знаю. Властные структуры Казахстана пытались скорректировать новый формат культурной памяти, заменив георгиевскую ленточку лентой цвета государственного флага, однако инициатива не нашла широкого отклика в социуме. Активную поддержку получили парады Бессмертного полка (рис. 1), когда правнук (праправнук), не видевший деда, несет его портрет, невидимая нить связывает поколения. Перед нами живая история памяти, ее мемориализация. Современное поколение реконструирует исторические события военного времени, организуя пошив фронтовой одежды, выстраивая военно-походный лагерь и прочую фронтовую атрибутику, весь процесс сопровождается фото в черно-белом ракурсе (рис. 2).

Рис. 1 (фото) . Парад Бессмертного полка в Усть-Каменогорске, 9 мая 2016 г.

Рис. 2 (фото) . Реконструкция военной повседневности
Особый интерес вызывают культурная память казахов и социальные практики в религиозной сфере. Смена идеологической панорамы на заре 90-х гг. ХХ в. оживила религиозные настроения. Казахи идентифицируют себя мусульманами ханафитско-го мазхаба, адаптированного к культуре и традициям казахского народа. Социальные практики казахских мусульман имеют многослойный характер, отличаются внутренним содержанием на региональном уровне. Многослойность казахской религиозной обрядности объясняется влиянием суфизма, тенгрианства, ислама. Есть авторы, выступающие против современной исламизации Казахстана, апеллирующие к Ч. Валиханову, указавшему, что ислам с трудом находил признание в Степи: «Мусульманство пока не въелось в нашу плоть и кровь. Оно грозит нам разъединением народа в будущем. Между киргизами (казахами) еще много таких, которые не знают и имени Магомета, и наши шаманы во многих местах степи еще не утратили своего значения. У нас в степи теперь период двоеверия, как было на Руси во времена преподобного Нестора» [1985. С. 71]. Религиозное пространство Казахстана представлено различными по содержанию ритуалами и обрядностями, религиозные практики порой прямо противоположны в пределах области проживания. Интересно, что культурная память казахов отражает мусульманскую культурную обрядность, опираясь на национальные традиции. Старшее поколение сопровождает обряд словами: «так делали наши родители», «это наши традиции», «так нужно».
Современное казахское общество условно представим несколькими религиозными группами. К одной из них можно отнести старшее поколение, которое признает ислам, но не соблюдает его канонов в полном объеме, эти люди религиозно неграмотны, однако живут в рамках поколенной памяти, преемственности ее традиций; в данном случае речь идет о бытовом исламе. Ко второй – лиц среднего и молодого возраста, они более сведущи в исламе, можно сказать, что грамотны религиозно, большая их часть соблюдает пост – оразу, по пятницам обязательно посещает мечеть. Третья группа – глубоко веру- ющие, соблюдающие предписания ислама, критически относятся к первым двум группам.
Культурная память и социальные практики в религиозных воззрениях казахов отличаются разнообразием содержания: чтение намаза, соблюдение поста – ораза, совершение хаджа, знание родословной, почитание и мемориализация предков, проведение ритуальной трапезы памяти предков, строительство надмогильных сооружений-мавзолеев, свадебный обряд – неке кыю, и пр.
Широко распространенный тренд в казахском обществе – культ святых, что проявляется в потоке паломников по святым местам в поисках благословения, благополучия, оздоровления, исполнения желаний. Каждое из этих мест имеет свои незыблемые правила посещения, особый маршрут, есть даже специальные лица, отвечающие за оздоровительно-паломнический тур.
Наряду с активным возрождением му-сульманско-тенгрианских традиций наблюдается вторжение в казахский социум нетрадиционного ислама, религиозных культов. Имеет место и радикальный ислам, Казахстан столкнулся с терактами и гибелью граждан на своей территории. Казахи открывают потерянное прошлое (М. Оже) для рождения нового, «сложное» прошлое уничтожается в пользу прошлого «простого» [Васильев, 2015. С. 42–43].
Таким образом, в современных условиях суверенное развитие государств постсоветского пространства обуславливает формирование исторической памяти, закладывая основной посыл и концепт его содержания. На примере государств постсоветского пространства мы наблюдаем формирование национальной (культурно-исторической) памяти с фиксацией суверенных ценностей как основы этногосударственной интеграции и легитимации нациестроительства. Обращение к историко-культурному наследию, с одной стороны, расширяет трансграничное содержание отечественной истории, с другой – интерпретация ее содержания «вымывает» взаимосвязь с всемирной историей. Культурная память стала государственной политикой, где стратегия развития республики, нациестроительство, этноидентификацион- ные процессы направлены на формирование ее заполнения. В результате историческая память в отдельных случаях может стать объектом управления и манипуляции, а нарративы истории – мифами.
Вместе с тем процессы глобализации мирового пространства, страх потери этнокультурного кода способствуют усилению трансформации и сакрализации прошлого, где якорем может служить общее прошлое и гражданско-патриотическое будущее. Позиционирование Казахстана как полиэтнического, толерантного, поликонфессионального государства обуславливает многонациональ-ность содержания исторической памяти. На протяжении периода суверенного развития государство стремится сформировать многокультурное пространство с трансляцией модели казахстанской идентичности с позитивной динамикой ее развития на основе общего исторического прошлого и суверенной памяти будущего, что в совокупности видоизменяет социальные практики казахстанского социума в соответствии с требованием времени. Многообразие праздничной культуры, формирование казахстанской идентичности приводят к складыванию особых слоев культурной памяти, видоизменяя ее семиотику, хотя содержание социальных практик оказывается порой не соответствующим государственным концептам исторической памяти.
Список литературы Концепты культурной памяти и социальные практики в Казахстане
- Алексеенко А. Н. Место встречи Усть-Каменогорск: два мира, два образа жизни в поисках взаимодействия и сотрудничества. Астана; Алматы: ИМЭП при Фонде Первого Президента РК, 2016. 144 с.
- Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004. 368 с.
- Валиханов Ч. Ч. О мусульманстве в Степи // Валиханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма- Ата, 1985. Т. 4. С. 71-75.
- Васильев А. Г. Культурная память / забвение и национальная идентичность: теоретические основания анализа // Культурная память в контексте формирования национальной идеи России в XXI веке. М., 2015. С. 29-57.
- Кочеляева Н. А. Проблемы взаимодействия механизмов памяти и забвения в формировании гражданского общества // Культурная память в контексте формирования национальной идеи России в XXI веке. М., 2015. С. 58-72.
- Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память. СПб., 1999. С. 17-50.
- Репина Л. П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). М.: ГУ ВШЭ, 2003. 44 с.
- Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2/3 (40/41). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2 (дата обращения 10.06.2016).
- Хобсбаум Э. Все ли языки равны? Язык, культура и национальная идентичность // Логос: Философско-литературный журнал. 2005. T. 4. C. 49-59.
- Kalinina E., Menke M. Negotiating the Past in Hyperconnected Memory Cultures: Post-Soviet Nostalgia and National Identity in Russian Online Communities // International Journal of Media & Cultural Politics. 2016. Vol. 12. Iss. 1. P. 59-74.
- Letnyakov D. Nation-Building: Identity Policies in Post-Soviet States // Mir Rossii - Universe of Russia. 2016. Vol. 25. Iss. 2. P. 144-167.
- Mazur L. Golden Age Mythology and the Nostalgia of Catastrophes in Post-Soviet Russia // Canadian Slavonic Papers. 2005. Vol. 57. Iss. 3-4. P. 213-238.