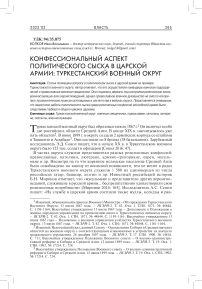Конфессиональный аспект политического сыска в царской армии: Туркестанский военный округ
Автор: Волков Иван Васильевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросу о политическом сыске в царской армии на примере Туркестанского военного округа. Автор отмечает, что его осуществляли командиры воинских подразделений и православные военные священники. Они старались держать под контролем религиозную жизнь военнослужащих всех вероисповеданий, однако православное военное духовенство не смогло искоренить прозелитические происки католицизма и сектантства в войсках округа. Представляется очевидным, что недостатки работы политического сыска среди религиозных конфессий российской армии были следствием глубокого общего кризиса царизма.
Туркестанский военный округ, военные священники, православие, католики, лютеране, сектанты, военнослужащие
Короткий адрес: https://sciup.org/170198258
IDR: 170198258 | УДК: 94/35.075 | DOI: 10.31171/vlast.v31i2.9572
Текст научной статьи Конфессиональный аспект политического сыска в царской армии: Туркестанский военный округ
Т уркестанский военный округ был образован в июле 1867 г.1 Он включал в себя две российских области Средней Азии. В конце XIX в. насчитывалось уже пять областей2. В июне 1899 г. в округе создали 2 армейских корпуса со штабами в Ташкенте и Асхабаде3. Они состояли из 8 бригад (38 батальонов). Зарубежный исследователь Э.Д. Сокол пишет, что в начале ХХ в. в Туркестанском военном округе было 125 тыс. солдат и офицеров [Сокол 2016: 47].
В частях округа служили представители разных религиозных конфессий: православные, католики, лютеране, армяно-григориане, евреи, мусульмане и др. Несмотря на то что коренное исламское население Средней Азии было освобождено по закону от воинской повинности, тем не менее в рядах Туркестанского военного округа служили 1 500 их единоверцев из числа российских татар, башкир, лезгин и др. Известный российский историк Б.Н. Миронов отмечает, что «мусульмане и представители других вероисповеданий, служившие в русской армии… беспрепятственно удовлетворяли свои религиозные потребности» [Миронов 2014: 165]. Исследователь А.С. Сенин пишет: «На службе в царской армии состояли также муллы, ксендзы и рав- вины. До войны на каждый округ приходилось по одному мулле, ксендзу и раввину. Они находились в распоряжении штаба округа» [Сенин 1990: 161]. Однако в Туркестанском военном округе, кроме военных православных священников, иных конфессиональных служителей не было. Они подчинялись главному священнику армии и флота, а с 1890 г. – протопресвитеру военного и морского духовенства1.
В соответствии с военным законодательством функции сыска в его войсках исполняли командиры воинских частей и армейские священники2. В их обязанности входил надзор за политической благонадежностью военнослужащих и пресечение антиправительственных настроений в их среде. Священники должны были сообщать властям «о политических настроениях своей паствы даже в нарушение тайны исповеди» [Поспеловский 1993: 42]. Безусловно, сыск прежде всего отслеживал степень влияния на военнослужащих округа идей опасных для власти политических партий – социалистов-революционеров (эсеров), социал-демократов, анархистов и др. Однако значительное внимание военный сыск уделял и надзору за конфессиональной жизнью в войсках.
Согласно Уставу внутренней службы, командиры частей Туркестанского военного округа были обязаны содействовать исполнению их подчиненными «религиозных обязанностей, налагаемых на них их вероисповеданием»3. С православными было проще – в бригадах, полках и батальонах им помогали в этом военные священники, тем более что военные церкви, согласно Уставу, находились в ведении командира части. Сложнее обстояло дело с «инославными» военнослужащими – неправославными христианами. Устав внутренней службы предусматривал, что «командиры частей устанавливают также порядок отправления в церкви своих исповеданий неправославных нижних чинов»4. Поскольку, в отличие от ряда других военных округов, в частях Туркестанского военного округа не было неправославных христианских военных храмов со священниками (капелланами), то их командиры сами устанавливали порядок исполнения религиозных обязанностей «инославными» военнослужащими [Литвинов 1996: 53-54, 71].
До учреждения протестантского (лютеранского) и католического приходов в Русском Туркестане религиозные нужды представителей этих вероисповеданий обслуживали военные священники, прибывавшие периодически из Кавказского военного округа и проводившие свои религиозные мероприятия в соответствии с расписанием, заранее согласованным и утвержденным в Военном министерстве. Оно доводилось до сведения всех командиров подразделений Туркестанского военного округа, обязанных в день приезда капелланов оказывать им всестороннее содействие в выполнении своей миссии. При этом следует заметить, что командиры многих частей округа (в т.ч. и генералы) были католиками или лютеранами. После организации лютеранского (1884 г.) и католического (1902 г.) приходов в Русском Туркестане обязанности удовлетворения религиозных нужд военнослужащих этих исповеданий были возложены на их настоятелей, которые были гражданскими священниками, но в соответствии с законодательством были обязаны обеспечивать духовным «призрением» и свою военную паству. Католический курат Пронайтис и лютеранский пастор Юргенсен регулярно посещали своих единоверцев в воинских частях для совершения религиозных богослужений и обрядов, но по распорядку, составленному штабом округа. Этот распорядок был известен всем командирам воинских подразделений, которые знакомили с ним военнослужащих – католиков и лютеран. Учитывая то обстоятельство, что в частях Туркестанского военного округа служило много католиков, в помощь курату позже был прислан ксендз Рутенис, работавший преимущественно в подразделениях 2-го Туркестанского армейского корпуса, дислоцировавшихся в Закаспийской области. Оба католических патера были литовцами, поскольку этого потребовало Военное министерство, не желавшее отдавать руководство общиной в руки антироссийски настроенных поляков, составлявших большинство католического населения в Средней Азии. Но если Рутенис был достаточно лояльным по отношению к царским властям, то этого нельзя было сказать о его шефе – Пронайтисе. Начиная с осени 1902 г. и до самой смерти (в январе 1917 г.), он постоянно враждовал как с военными властями Туркестанского края, так и со всеми христианскими единоверцами, прежде всего с православными. Поэтому к появлению курата в частях округа готовились – бдительность командиров и военных священников возрастала, т.к. Пронайтис не боялся даже в войсках исподволь склонять православных военнослужащих к восприятию папистской веры.
В 1907 г. настоятель Александро-Невской церкви Амударьинской бригады пограничной стражи жаловался туркестанскому архиерею Димитрию (Абашидзе), что курат обратил в католичество двух его солдат. Епископ попросил разобраться в этом руководство Туркестанского военного округа, однако ему разъяснили, что пограничники подчинены Министерству финансов, а не военному ведомству. Но командование округа все же потребовало от Пронайтиса формальных разъяснений, которые он представил, продемонстрировав большие способности в части юридической казуистики1. Сыск установил, что курат во время богослужений читал перед военнослужащими-единоверцами двусмысленные проповеди – внешне лояльные, но по сути антирусские. Несмотря на Высочайшее повеление от 24 февраля 1864 г. «о неупотреблении польского языка при требоисполнении для нижних чинов» и обращении к ним с проповедями только на русском языке, Пронайтис читал их и на польском, и на литовском языках, открыто игнорируя государственный язык, хотя при назначении на должность курата обязывался использовать только его2. Командование округом возмущалось таким поведением католика, но он смирялся лишь временно. Эпатаж курата возрос особенно после издания царского указа от 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости»3. Закон снял запрет на переход из православия в инославие4 и уголовную ответственность за «совращение» к такому религиозному ренегатству. Пронайтис дошел даже до того, что принимал присягу у новобранцев-католиков не на русском языке, как было положено по Воинскому уставу, а на польском и литовском. «Примечательно, что своими действиями курат нарушал не только нормы российского законодательства, но и соответствующие декреты римского первосвященника, который в 1905 г. разрешил использовать русский язык при богослужениях, а в 1907 г. официально утвердил его вторым языком в католических богослужениях на территории Российской империи» [Литвинов 1996: 58].
Такое поведение литовца вызвало весьма негативную реакцию со стороны командующего Туркестанским военным округом кавалерийского генерала А.В. Самсонова. После вступления в должность в марте 1909 г. он подал рапорт военному министру В.А. Сухомлинову, в котором рекомендовал тому обратиться в Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД (далее – ДДДИИ) с тем, чтобы он потребовал от «духовного начальства» Пронайтиса указать последнему на недопустимость нарушения соответствующих законодательных установлений. Сухомлинов предписал Азиатской части Главного штаба подготовить соответствующее письмо министру внутренних дел П.А. Столыпину. Последний распорядился урегулировать ситуацию, и в декабре 1909 г. ДДДИИ МВД направил специальный циркуляр на эту тему в Могилевскую римско-католическую епархию, в ведении которой находился Туркестанский край1. Что касается лично Самсонова, то генерал просил передать католическому курату, что в случае повторения его безответственного поведения при проведении присяги он запретит ему появляться в частях округа, а то и отдаст его под суд. «Кавалерийский наскок» командующего округом, безусловно, отрезвил зарвавшегося литовца. Судя по документам, в последующем Пронайтис не повторял своих «ошибок» с военной присягой. В июне 1910 г. Самсонов потребовал от военных губернаторов и начальника Закаспийской области предоставления проверенных сведений о миссионерской деятельности католика, запрещенной законом. Он был прав: закон от 17 апреля 1905 г. разрешил переход из православия в инославие, но законодательство по-прежнему разрешало религиозный прозелитизм только Русской православной церкви как «господствующей вере» в империи2. Областные руководители поручили собрать сведения о католическом миссионерстве Пронайтиса штабам войск. Факты перехода православных в католицизм были выявлены, но, как отмечается в документах, «было ли в этом случае какое-нибудь влияние со стороны курата, неизвестно»3.
Нелишне заметить, что, в отличие от католического курата, лютеранский пастор Юргенсен исправно исполнял все свои религиозные обязанности в войсках Туркестанского военного округа, не допускал прозелитизма, доброжелательно относился к военнослужащим всех конфессий.
У нас нет достаточных оснований связывать бунтарство католиков – поляков и литовцев – в частях Туркестанского военного округа напрямую с «подрывной» деятельностью Пронайтиса, но тот факт, что в организации выступления саперов округа в 1912 г. сыграли большую роль католики-поляки, на наш взгляд, был в немалой мере связан с десятилетним эпатажным антирос-сийским поведением курата в войсках. Таким образом, у командования округа было немало оправданных претензий к деятельности курата в подразделениях округа. Тем не менее его командование проявляло сдержанность и уважение, но не столько к «экстравагантному» литовцу, сколько к религиозным чувствам военнослужащих-католиков.
7 февраля 1903 г. с разрешения командующего войсками Туркестанского военного округа генерал-лейтенанта Н.А. Иванова в частях округа прошли торжественные католические богослужения по случаю 25-летнего юбилея понтификата Римского папы Льва ХIII. 8 марта 1905 г. командующий округом генерал от кавалерии Н.Н. Тевяшев издал приказ о выдаче «увольнительных» солдатам-католикам по религиозным праздникам: Всех святых (1 ноября), Беспорочного зачатия Пресвятой Богородицы (8 декабря), Тела Господня (11-й день после Троицы)1. В конце февраля 1908 г. командующий войсками округа генерал от инфантерии Н.И. Гродеков разрешил отпускать нижних чинов – католиков в увольнение для участия в богослужениях во все праздничные дни к их началу, т.е. к 9 часам утра. Однако, несмотря на такое отношение командования округа к католикам, Пронайтис продолжал осуществлять антирос-сийскую деятельность в частях округа, хотя она, конечно же, стала еще более замаскированной. Тем не менее командованию округом она была известна, в рамках закона оно ей препятствовало и требовало от военных православных священников более решительной наступательной проповеди против прозели-тических поползновений паписта. Однако значительной отдачи от православных священников в этом деле оно так и не получило.
Это вряд ли вызывает удивление, поскольку военные священники Русского Туркестана представляли собой слабое звено в цепи как окружного, так и общекраевого политического сыска. Очевидно, что конфессиональная ситуация в русской армии являлась сублимированной рефлексией общественных отношений, существовавших в стране в рассматриваемый период. Поэтому положение православия в войсках Туркестанского военного округа было им адекватно. Православное духовенство постепенно теряло значение главной духовной опоры царизма. Более того, в его рядах росли левые настроения. Б.Н. Миронов пишет, что в 1870-х гг. 22% народников были из православного духовенства, тогда как доля духовенства среди населения страны составляла всего 0,9% [Миронов 2014: 377]. В 1905–1907 гг. в России были даже забастовки в духовных семинариях [Реент 2001: 273]. В 1913 г. в баптизм перешел противо-сектанский миссионер Александр Волгин2. Н.А. Бердяев назвал союз Церкви с монархией «ложной связью» [Реент 2001: 275].
Первый протопресвитер военного и морского духовенства А.А. Желобовский, посетивший Туркестанский военный округ в 1901 г., писал в своем отчете о низком уровне профессиональной квалификации местных военных священ-ников3. На страже «господствующей веры» – православия стояло царское законодательство. Уголовное уложение 1845 г. предусматривало суровые наказания за посягательство на его сакральные устои4. Казалось бы, это должно было облегчать работу священников Туркестанского военного округа. Однако они не смогли не только улучшить религиозно-нравственное состояние войск, но и противостоять главному врагу православия – сектантству.
Первые случаи проявления последнего в Туркестанском военном округе обнаружились вскоре после его образования. В начале 1870-х гг. в станице Софийской Семиреченского казачьего войска была раскрыта действовавшая нелегально секта, вероучение которой представляло «смесь хлыстовства и скопчества»1. Командующий округом генерал-адъютант К.П. Кауфман распорядился провести тщательное расследование дела. Выяснилось, что за время существования секты имели место несколько случаев оскопления казаков Семиреченского войска. 24 сентября 1872 г. военно-окружной суд приговорил 23 членов секты к каторжным работам и ссылке в Восточную Сибирь2. Остальные сектанты были подвергнуты епитимье и после «увещевательных» бесед со священником возвращены в лоно православия.
В июле 1894 г. обер-прокурор Св. Синода, могущественный царедворец К.П. Победоносцев писал военному министру П.С. Ванновскому, что идеи западного сектантства – «штунды» и баптизма пропагандируются и в войсках, в связи с чем в них надо усилить наблюдение за религиозным настроением нижних чинов3. Ванновский направил соответствующий циркуляр на места, в т.ч. командующему Туркестанским военным округом генерал-лейтенанту А.Б. Вревскому. Последний доложил, что в подведомственных ему воинских частях такой пропаганды нет. Он был прав, поскольку указанные секты только начали осваиваться в Средней Азии.
Иначе обстояли дела в Закаспийской области, войска в которой до 1898 г. не входили в состав Туркестанского военного округа. Получив предписание военного министра по поводу письма Победоносцева, начальник области и командующий войсками в ней генерал-лейтенант А.Н. Куропаткин приказал штабу войск изучить вопрос и 30 сентября 1894 г. направил приказ командирам воинских частей, в котором обратил их внимание на участившиеся случаи проникновения в войска «книгонош» Британского библейского общества, распространяющих религиозную литературу, подрывающую основы православия и пропагандирующие западное сектантство. Куропаткин указывал, что всех прибывающих «книгонош» необходимо направлять к военным священникам с тем, чтобы они проверяли всю привезенную литературу и изымали вредные книги с составлением их перечня и потом делали представление начальству о разрешении или запрещении продажи оставшейся религиозной литературы4. В результате почти всем «книгоношам» Британского библейского общества было отказано в распространении религиозной литературы не только в войсках, но и среди гражданского населения области.
Некоторый подъем сектантской пропаганды в войсках имел место в годы Первой русской революции 1905–1907 гг. В частях Туркестанского военного округа тайно распространялась брошюра эсера С. Федоровича, содержавшая в себе «социалистическую пропаганду, которая была нацелена на дезориентацию войска, распространение в армии атеизма, антицерковных и антигосударственных идей. Автор призывал солдат к непослушанию властям и дезертирству». Исследователь Е.Е. Озмитель подчеркивает: «В казармах активно действовали не только пропагандисты-революционеры, но и сектанты » [Озмитель
2010] (курсив наш. – И.В .). Подтверждением тому является соответствующая деятельность сектантов-молокан.
Еще в ходе революции, 7 марта 1907 г. начальник Самаркандского отдела Ташкентского артиллерийского склада подполковник Репин направил рапорт командиру Самаркандского гарнизона генерал-лейтенанту Грекову, в котором отмечал, что нижние чины, отправляясь в увольнение, открыто заявляют, что они идут слушать проповеди к заведующему местной почтовой станцией Абраму Ивановичу Рудометкину, проповедующему молоканскую веру, в которую они намерены перейти. Репин установил, что проповеди молоканина еще с 1906 г. посещают 15 солдат. Репин заканчивал рапорт словами: «Не признаете ли Вы, Ваше Превосходительство, возможным пресечь совращение нижних чинов гарнизона и горожан из Православия в молоканство?»1
Генерал Греков оказался в сложном положении, поскольку, как отмечалось, еще в апреле 1905 г. был издан указ о веротерпимости. Поэтому 13 марта 1907 г. он направил рапорт с изложением дела военному губернатору Самаркандской области генерал-лейтенанту Григорьеву. Тот наложил резолюцию: «Срочно. Полицмейстеру. Прошу доложить известны ли эти беседы полиции. Молокане, вообще, отрицают Православную Церковь и обряды, не признают помазанников и учат избегать исполнения законов о военной службе и присяге. Но один из их толков (донской) подчиняется властям безусловно, молятся за них и не уклоняются от военной службы, признавая присягу»2. При этом он рекомендовал учитывать новое законодательство о свободе совести: «Донесение полиции о сборищах, во всяком случае неразрешенным нужно сопоставить с последними законами о свободе вероисповеданий для решения вопроса о совершенном запрете сходок Рудометкина. Что касается солдат, то запретить безусловно »3 (курсив наш. – И.В .)
Несмотря на пометку «срочно», полицмейстер г. Самарканда не спешил с ответом. 19 июля 1907 г. он писал в рапорте в Самаркандское областное правление, что сведения о молениях на почтовой станции у Рудометкина он получал и раньше, однако агентурные данные свидетельствовали, что Рудометкин открытой пропаганды молоканства не вел, а большинство посещало его из любопытства. Полицмейстер вызвал Рудометкина и приказал тому не допускать на свои моления военнослужащих. Тот пообещал. Полицмейстер отмечал в рапорте, что он не имел права запретить сходки у Рудометкина, т.к. «руководствовался законом о собраниях и сходках». Он писал в заключение: «Ввиду объявленной свободы вероисповедания, прошу указания, если требуется предпринять какие-либо меры»4.
2 августа 1907 г. Самаркандское областное правление писало полицмейстеру г. Самарканда, что его приверженность законам о свободе совести похвальна, но, тем не менее, он должен следить за тем, чтобы деятельность Рудометкина не представляла политической опасности. Ему рекомендовали в таком случае принять меры, «которые должны заключаться не в ограничении духовной свободы, а в пресечении и преследовании на основании уголовного закона»5. 12 сентября 1907 г. военный губернатор Самаркандской области докладывал туркестанскому генерал-губернатору и командующему военным округом генералу от инфантерии Н.И. Гродекову, что, по донесению полицмейстера г. Самарканда, Рудометкин не ведет пропаганду молоканской ереси, но полиции приказано реагировать лишь в случае «точно определенных отдельных преступных деяний»1.
Сектанты разных толков тайно работали в войсках Туркестанского военного округа и в дальнейшем. Особенно они активизировались в годы Первой мировой войны2. Православные военные священники не могли эффективно противостоять их пропаганде, тем более что в 1916 г. в крае вспыхнуло мощное антицаристское и антирусское восстание коренного населения, а в феврале 1917 г. рухнул многовековой монархический режим.
Изложенное выше позволяет констатировать, что политический сыск в войсках Туркестанского военного округа имел заметное конфессиональное выражение. Командиры воинских подразделений и православные священники округа старались держать под контролем религиозную жизнь военнослужащих всех вероисповеданий, но не без недостатков. Православное военное духовенство не смогло искоренить прозелитические происки католицизма и сектантства в войсках Туркестанского округа. Представляется очевидным, что издержки работы политического сыска среди религиозных конфессий российской армии были следствием глубокого общего кризиса царизма.
Список литературы Конфессиональный аспект политического сыска в царской армии: Туркестанский военный округ
- Литвинов П.П. 1996. Неисламские религии Средней Азии (вторая половина ХIХ - начало ХХ вв.). Елец. 226 c.
- Миронов Б.Н. 2014. Российская империя: от традиции к модерну. В 3 т. СПб: Дмитрий Буланин. Т. 1. 896 c.
- Озмитель Е.Е. 2010. Религиозно-нравственное состояние переселенцев в Туркестане. - Вторые Востоковедческие чтения памяти Н.П. Остроумова: сборник материалов. Ташкент, 27 ноября 2008 г. Ташкент. С. 288-289.
- Поспеловский Д. 1993. Русская православная церковь: испытание начала ХХ в. - Вопросы истории. № 1.
- Реент Ю.А. 2001. Общая и политическая полиция России (1900-1917 гг.): монография. Рязань: Узорочье. 284 c.
- Сенин А.С. 1990. Армейское духовенство в России в первую мировую войну. - Вопросы истории. 1990. № 10. С. 159-165.
- Сокол Э.Д. 2016. Восстание 1916 г. в Русской Центральной Азии. Бишкек. 191 с.