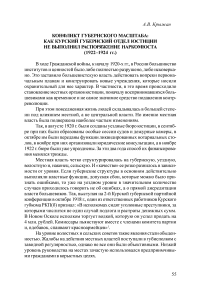Конфликт губернского масштаба: как Курский губернский отдел юстиции не выполнил распоряжение Наркомюста (1922-1924 гг.)
Автор: Крыжан Анна Викторовна
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 30, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе малоизвестных архивных документов рассматриваются взаимоотношения центральной власти, местной власти и провинциального обывателя (на примере событий, произошедших в Курской губернии в 1922-1924 гг.). В центре внимания - противостояние одной семьи местным органам Советской власти по поводу национализированной усадьбы, принадлежавшей до революции членам этой семьи. Делается вывод, что даже в условиях, когда большевистская диктатура жестко «нормировала» повседневную жизнь граждан, происходил и обратный процесс: инерция быта, нежелание людей отказываться от привычного жизненного уклада способны были влиять на действия власти и даже вызывать конфликт между ее верхними и нижними этажами.
Курская губерния, вцик, наркомат юстиции, губернский исполком, губернский отдел юстиции, уездный земельный отдел, обыватель, повседневность, конфликт
Короткий адрес: https://sciup.org/14913610
IDR: 14913610
Текст краткого сообщения Конфликт губернского масштаба: как Курский губернский отдел юстиции не выполнил распоряжение Наркомюста (1922-1924 гг.)
В ходе Гражданской войны, к началу 1920-х гг., в России большинство институтов и ценностей было либо полностью разрушено, либо исковеркано. Это заставило большевистскую власть действовать вопреки первоначальным планам и конструировать новые учреждения, которые носили охранительный для нее характер. В частности, в это время происходило становление местных органов юстиции, поначалу воспринимавшихся большевиками как временное и не самое значимое средство подавления контрреволюции.
При этом повседневная жизнь людей складывалась в большей степени под влиянием местной, а не центральной власти. Но именно местная власть была подвержена наиболее частым изменениям.
Так, в августе 1920 г. были созданы уездные бюро юстиции, в сентябре при них были образованы особые сессии судов и дежурные камеры, в октябре им были переданы функции ликвидированных нотариальных столов, в ноябре при них организовали юридические консультации, а в ноябре 1922 г. бюро были уже упразднены. За эти два года способ их финансирования менялся трижды.
Местная власть четко структурировалась на губернскую, уездную, волостную и, наконец, сельскую. И «качество» ее резко разнилось в зависимости от уровня. Если губернские структуры в основном действительно выполняли властные функции, допуская сбои, которые можно было признать ошибками, то уже на уездном уровне в значительном количестве случаев приходилось говорить не об ошибках, а о прямой дисредитации власти большевиков. Так, выступая на 2-й Курской губернской партийной конференции в октябре 1918 г., один из ответственных работников Курского губкома РКП(б) признал: «В исполкомах сидят уголовные преступники, за которыми числится не один случай подлога и растраты денежных сумм. В Новом Осколе исполком торгует водкой, которую он успел продать на 4 млн. рублей. Комиссары пьянствуют вместе с членами комитета партии и, вдобавок, спаивают красноармейцев»1.
На уровне волостных и сельских советов такие явления стали обыденностью. Жалобы на действия местных властей поступали в губисполком с завидной регулярностью, однако не все они были объективными. Низкий уровень руководства на местах зачастую использовался предприимчивыми гражданами в корыстных целях.
Оставшись в общем-то прежним, российский обыватель претерпел одно существенное изменение. Братоубийственная война представляла собой угрозу для жизни в ее физическом смысле, поэтому, когда она закончилась, людям особенно сильно «хотелось жить». В самом обыденном смысле люди понимали под жизнью привычный для себя уклад: устоявшийся быт, родных и близких людей, знакомые и привычные социальные действия ‒ другими словами, некую «нормальность». Именно эта «нормальность» являлась необходимым условием того, чтобы человек чувствовал уверенность в своем нынешнем дне и мог уверенно планировать свои действия в будущем. Те, кто в результате революции и Гражданской войны потерял все или почти все, стремились вернуться к знакомым занятиям и привычному укладу жизни, если только какие-то особые обстоятельства не вынуждали их к иному. В тот переходный период строительства новой жизни быстро возникла некая инерция быта. Однако в отличие от периодов социальной стабильности обыватели не ощущали «нормальности», потому что в любой момент их планы и устремления могла разрушить ‒ и действительно разрушала ‒ новая, большевистская, власть. Для обывателей она была непредсказуемой не только в силу того, что она была организована по-новому и действовала в невиданных ранее обстоятельствах, но еще и потому, что она сама находилась в состоянии постоянного изменения, нескончаемых реорганизаций.
В пореволюционной России, в условиях последовавших за революцией перемен, извечный антагонизм между «власть имущими» и обычными гражданами достиг особой остроты. Первые стремились удержаться у власти и отстоять, воплотить в жизнь новые идеалы («наш новый мир построить»), вторые хотели выжить в экстремальных условиях и при этом сохранить более или менее приемлемый для себя жизненный уклад, максимально близкий к привычному, дореволюционному.
Об этом, а также о том, что каждая из «сторон» видела в другой основное препятствие на пути к своей цели, свидетельствуют события, произошедшие в Курской губернии в 1922‒1924 гг.
В начале марта 1922 г. ВЦИК поручил Наркомату юстиции выяснить причины невыполнения его постановления местными властями Курской губернии. Наркомюст, в свою очередь, отдал распоряжение Курскому губернскому отделу юстиции разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности. Но это поручение также не было выполнено2.
Вопрос заключался в следующем.
В Щигровском уезде находилась усадьба Хорошиловых, которая включала 12 дес. земли, сад, два деревянных дома, размером 15 на 25 и 11 на 15 аршин, две бревенчатые кухни и три сарая. После большевистской революции она была национализирована и находилась в распоряжении местной власти уезда. К моменту национализации из семьи Хорошиловых в усадьбе проживала только дочь Лидия Николаевна с гражданином И.И. Сергеевым, бывшим приказчиком Хорошиловых. Позже вернулась старая хозяйка, и в октябре 1922 г. в усадьбе жили Сергеев и его гражданская жена Лидия Хорошилова, двое детей Сергеева, его тетка и две сестры, из которых одна замужняя, а так же бывшая хозяйка поместья ‒ старуха, разбитая параличом. Вторая ее дочь ‒ Любовь Николаевна Хорошилова ‒ уже 15 лет не жила с семьей, проживала в Москве и работала в Наркомземе3.
В апреле 1918 г. Сергеев был принят на работу в уездный земельный комитет (укомзем) в качестве садового техника с проживанием в усадьбе Хорошиловых, при которой находился сад. В 1919 г. при наступлении белых Сергеев самолично реализовал урожай сада. С возвращением Советской власти в конце 1919 г. он снова был принят в укомзем на должность садовника. В 1921 г. он арендовал сад и реализовывал урожай как арендатор. В том же 1921 г. в усадьбу был поселен некий гражданин Козловский, которому «как красному и трудовому инвалиду»4 была отведена часть усадьбы. В начале 1922 г. семья Хорошиловых обратилась в Наркомзем с ходатайством о снятии усадьбы с национализации на основании того, что она является трудовой.
Вопрос был передан на рассмотрение ВЦИК, который обратился к уездному исполнительному комитету за заключением. Щигровский исполком принял отрицательное решение, мотивировав его тем, что усадьба «имеет культурно-промышленное значение»5. Тем не менее, 16 марта 1922 г. ВЦИК постановил оставить усадьбу в распоряжении семьи Хорошиловых.
Летом 1922 г. в Курске проездом находился М.И. Калинин.
Местные власти, дезориентированные полученным постановлением от 16 марта, обратились к нему за разъяснениями. Вникнув в обстоятельства дела, Калинин на словах отменил прежнее постановление. И 13 июля 1922 г. появилось новое решение ВЦИК: «передать означенную усадьбу в распоряжение Щигровского Уземотдела с выселением из усадьбы как Хорошиловых, так и Козловского»6.
Однако события на этом далеко не закончились. 26 июля в Курский губисполком пришла телеграмма от Калинина: «Урожай огорода и сада этого года принадлежит Хорошиловым. Выселение остановите до сбора урожая средствами и силами Хорошиловых и до предоставления другого участка с годным жильем»7. Телеграмма эта повергла в полное недоумение президиум Курского губисполкома и уездные власти: это был конец июля ‒ начало августа и к этому времени уездный земельный комитет уже реализовывал урожай сада.
21 августа 1922 г. член президиума ВЦИК П.Г. Смидович направил в Щигры телеграмму: «...Дело Хорошиловых на Вашу личную ответственность. Неисполнение повлечет придание виновных суду с предварительным устранением от должностей». Смидович, не ограничиваясь телеграммой, написал письмо председателю Курского губисполкома Емельянову, в котором по поводу дела Хорошиловых отметил: «fl как-то указал, что в этом деле есть что-то гнусное и вы протестовали. Товарищ, не пройдите мимо, всмотритесь, и вы увидите, что здесь гнусно. Предупредите, остановите товарищей в Щиграх... Хорошиловым не дают снять урожай с обработанной ими в этом году земли. Во всей РСФСР установлено законом и практикой, что урожай снимает тот, кто сеял. Щигровские товарищи желают собрать там, где не сеяли»8.
Неподдельное недоумение и даже возмущение курских работников было ясно выражено в обращении президиума губисполкома во ВЦИК. В нем указывалось: в Курске не знают «заслуги гражданина Сергеева перед Республикой, за которую следовало бы наградить его 2 000 пудов плодов сада и громадным количеством овощей»9.
Видимо, это возымело действие, так как через два месяца, 26 октября, президиум ВЦИК принял постановление: «Оставить в силе постановление Президиума ВЦИК от 13 июля 1922 г. Разрешить гр-нам Хорошиловым беспрепятственный вывоз всего движимого имущества, а также наделить Хорошилову и Сергеева земельным наделом по трудовой норме в одном месте с предоставлением необходимых жилых построек»10.
Недоумение и возмущение местных властей были вполне оправданы. Во-первых, уисполком настаивал на том, что «работа гр-на Сергеева с весны 22 года по июль, когда он являлся фактическим и юридическим пользователем сада, вполне окуплена урожаем огорода, посаженного им в саду, и передача ему урожая нетрудового помещичьего сада, самые молодые посадки которого достигают 14‒15-летнего возраста, было бы снятием урожая там, где он не сеял, и наносило бы ущерб интересам государства»11. А во-вторых, Хорошиловы отнюдь не бедствовали (согласно заверенным документам, у гражданина Сергеева имелось «2 лошади, 6 коров, овцы и свиньи»12), и подобная «забота» центральных органов об отдельно взятой семье явно обескураживала.
Причина вскрылась тогда же, в октябре 1922 г., когда в Курск для расследования «дела Хорошиловых» приехал уполномоченный ВЦИК Иванов. Приезд его был мотивирован тем, что во ВЦИК поступила жалоба на неисполнение его распоряжения о предоставлении возможности Хорошиловым снять урожай сада 1922 г. своими силами, а также тем, что ни в президиуме ВЦИК, ни в Наркомюсте не имелось никаких сведений о выполнении их поручений местными властями. Иванов привез с собой письма работавшей в Наркомземе Любови Хорошиловой, которые ему передал для расследования Смидович. О письмах стало известно от члена президиума губиспполкома Прядченко, который присутствовал при беседах Иванова с Лидией Хорошиловой и Сергеевым. По словам Прядченко, в письмах Любовь Хорошилова писала, что в Щигровском и Курском исполкомах работают «озверевшие от самогона люди», «люди пагубные и невежественные», которых терпят потому, что у них когда-нибудь «будут более культурные наследники...» Обращаясь во ВЦИК, автор восклицала:
«Вы думаете, что у Вас есть власть, ‒ у Вас есть только какие-то отбросы общества, на которых нельзя надеяться; у Вас создается самообман и вы думаете, что в Ваших руках есть власть...»13
Вопрос вызвал ожесточенные споры. Члены Курского губисполкома настаивали на том, чтобы Иванов показал им письма, а также на привлечении Хорошиловой к ответственности. Иванов отказался, утверждая, что письма были переданы ему Смидовичем с целью проверки содержащихся в них обвинений, а поскольку последние не подтвердились, то письма не имеют никакого значения. Он признал тот факт, что Любовь Хорошилова была лично знакома со Смидовичем и писала ему не как члену ВЦИК, а как знакомому человеку14.
Стенограмма заседания президиума губисполкома, на котором выступал Иванов, свидетельствует о буре эмоций, последовавшей вслед за отказом показать письма. Местных советских работников можно понять: обвинения их в политической некомпетентности основывались на вполне банальных и в данном случае абсолютно голословных утверждениях об их пьянстве, распущенности и взяточничестве. Ведь Хорошилова обвиняла не уездных, а именно губернских работников. По всей видимости, будучи работником наркомата, она вполне осознавала силу властной вертикали, сложившейся в большевистской системе к 1922 г.
Здесь необходимо приостановить описание событий и прибегнуть к анализу ситуации. Если вести речь о целерациональных действиях в данном случае, очевидно, что целью Хорошиловых и их бывшего приказчика Серегина было, разумеется, не выживание в новых социально-политических условиях, а скорее ‒ сохранение имевшегося статуса и дальнейшее осознанное продвижение с учетом открывающихся возможностей нэпа. Для этого они использовали два весьма тривиальных приема: спекуляцию своей трудовой деятельностью по содержанию бывшего барского сада и сбору урожая «для республики» (которая, несомненно, имела место, и которую никто и не пытался отрицать) и связи одной из сестер, возможно носившие не только личный, но и служебный характер (к сожалению, документы не содержат сведений о ее должности в Наркомземе).
В итоге предпринятые ими усилия вызвали конфликт между верхними и нижними «этажами» власти. В дело вмешались и «ударные силы» ‒ партийные органы. В процессе бурного обсуждения вопроса о письмах Хорошиловой начальник губотдела юстиции И.Н. Паляничкин предложил обсудить этот вопрос на заседании большевистской фракции президиума губисполкома. По-видимому, это и было сделано, так как 30 октября 1922 г. был собран президиум Курского губкома РКП(б), в постановлении которого отмечалось: «Дело о возвращении усадьбы бывшей помещице Хорошиловой приобретает все более политическое значение, получило широкую огласку среди окружающего крестьянства, возмущающегося возвращением усадьбы бывшим помещикам контрреволюционерам, поэтому необходимо срочно и твердо разрешить этот вопрос, вследствие чего Губком просит Цека дать соответствующую директиву Фракции Президиума ЦИК»15.
Что же составляло подоплеку конфликта между «этажами» властной вертикали? Конфликтная ситуация формируется за счет противоречивых позиций сторон и их стремления к разным целям. Каковы же были цели и ожидания местных властей? Заряженные инерцией революционной целесообразности, они готовы были воплощать в жизнь классовый подход в самом вульгарном его содержании: Хорошиловы ‒ бывшие помещики, Сергеев ‒ бывший приказчик; следовательно, они являются элементами, чуждыми новому строю; раз так, то любая защита их со стороны кого бы то ни было ‒ факт возмутительный, и, более того, подозрительный.
Разумеется, нет никаких оснований подозревать ВЦИК в недостатке революционной бдительности или предвзятости. Судя по тому, как легко Калинин изменил свое мнение (вернее, мнение ВЦИК), оказавшись в Курске и всего лишь поговорив с «местными товарищами», в Москве в ситуацию детально не вникали. Скорее здесь «сработали» следующие факторы.
Во-первых, за годы военного коммунизма ВЦИК, как и все советские органы, превратился в бюрократическую машину, которая умело использовалась работниками в личных целях, и определяющую роль в этом деле сыграло личное знакомство Любови Хорошиловой с членом президиума ВЦИК Смидовичем. Тут уместно провести аналогию с фактами, приведенными в воспоминаниях княгини И.Д. Голициной (урожденной Татищевой). Она пишет, что в 1923 г. они пытались «найти какой-нибудь способ покинуть Россию. В то время очень могущественным человеком был Енукидзе, друг Сталина, который неплохо относился к людям в нашем положении, особенно к титулованным; это он помог уехать Лорис-Меликовым»16.
Во-вторых, после X съезда РКП(б) центральная власть все больше отходила от революционной целесообразности, склоняясь к революционному прагматизму. Кто такой бывший приказчик Сергеев? По своей сути ‒ это нэпман, обыватель, начисто лишенный какой-либо идейной направленности и в любой ситуации действующий с позиций собственной выгоды. Поэтому, при всей казуистичности ситуации, действия ВЦИК в «курском конфликте» можно рассматривать как тенденцию. Предприимчивый приказчик более соответствовал вводимым сверху изменениям, чем местные ревнители пролетарской идеологии. С другой стороны, «неприятие» решений ВЦИК курскими партийными и советскими работниками через три-четыре года примет массовый характер, перерастет в негативного отношение основной части населения, особенно рабочих, к новой социальной прослойке, ведущей далеко не социалистический образ жизни, в непонимание политики центральной власти, которая привела к появлению нэпманов.
Постановление президиума ВЦИК от 26 октября 1922 г. так и не было выполнено. Дело Хорошиловых возобновилось в 1924 г., когда в Щигровс-кий уисполком пришла телеграмма секретаря ВЦИК А. Киселева с требо- ванием приезда в Москву компетентного лица для дачи объяснений. В марте 1924 г. губисполком предложил щигровским властям в недельный срок выполнить постановление ВЦИК от 26 октября 1922 г. Щигровский исполком принял решение передать «Сергееву и Хорошиловой постройку с усадьбой бывш. Иванова, находящуюся в деревне Малый Щигровик Больше-Щигровской волости...» Но и это постановление не было выполнено. Из сообщения, отправленного в Москву 30 мая 1924 г., видно, что Сергеева пришлось наделять постройками и землей во второй раз, при этом местные власти признали, что «ввиду неокончания землеустроительных работ и неимения свободной земли, в одном месте земли отвести не удалось», а также не удалось выполнить и требования Хорошиловых к помещениям, так как ничего пригодного для жилья не оказалось, а денег на ремонт у исполкома не было17.
Двухлетняя тяжба между отдельной семьей и уездным земотделом активизировала всю вертикаль власти: уездный исполком ‒ губисполком ‒ ВЦИК и Наркомюст. Так инерция быта, нежелание отдельных людей отказываться от привычного жизненного уклада, стремление сохранить его несмотря на экстремальные изменения условий, не просто оказали влияние на власть и ее действия, но даже вызвали конфликт между ее верхними и нижними «этажами».
Список литературы Конфликт губернского масштаба: как Курский губернский отдел юстиции не выполнил распоряжение Наркомюста (1922-1924 гг.)
- Государственый архив общественно-политической истории Курской области (ГАОПИКО). Ф. П-65. Оп. 1. Д. 3. Л. 38.
- Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф. Р-325. Оп. 1. Д. 169. Л. 79.
- Голицына И.Д. Воспоминания о России (1900-1932). М., 2009. С. 103.