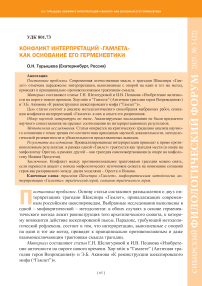Конфликт интерпретаций «Гамлета» как основание его герменевтики
Автор: О.Н. Турышева
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Слово молодым исследователям
Статья в выпуске: 3 (32), 2025 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. Современная отечественная мысль о трагедии Шекспира «Гамлет» отмечена парадоксом: интерпретации, выполненные с опорой на один и тот же метод, приводят к принципиально противоположным трактовкам смысла. Материал составляют статьи Г.Н. Шелогуровой и И.В. Пешкова «Изобретение античности на пороге нового времени. Хор ratio в “Гамлете” (Античная трагедия героя Возрождения») и Э.Б. Акимова «К реконструкции шекспировского мифа (“Гамлет”)». Цель статьи состоит в анализе методологического своеобразия выбранных работ, описании конфликта интерпретаций «Гамлета» в них и опыте его разрешения. Обзор научной литературы по теме. Анализируемые исследования не были предметом научного сопоставления на предмет соотношения их интерпретационных результатов. Методология исследования. Статья опирается на критическую традицию анализа научного сочинения с точки зрения его соответствия принципам научной доказательности, методологической релевантности и убедительности представленных выводов. Результаты исследования. Проанализированные интерпретации приводят к прямо противоположным результатам: в рамках одной «Гамлет» трактуется как трагедия мести (в опоре на мифологему Ореста), в рамках другой – как трагедия самопожертвования (в опоре на мифологему Иоанна Предтечи). Заключение. Конфликт между противоположными трактовками трагедии можно снять, если перенести акцент с поиска мифологических источников сюжета на понимание сознания героя как разорванного между двумя моделями – Ореста и Иоанна.
Трагедия Шекспира «Гамлет», мифокритическая методология, интерпретация «Гамлета», трагический герой, сознание трагического героя
Короткий адрес: https://sciup.org/144163518
IDR: 144163518 | УДК: 801.73
Текст научной статьи Конфликт интерпретаций «Гамлета» как основание его герменевтики
остановка проблемы. Основу статьи составляют размышления о двух интерпретациях трагедии Шекспира «Гамлет», принадлежащих современным российским шекспироведам. Выбранные исследования выполнены в одной – мифокритической – методологии: в обоих случаях в основе герменевтического метода лежит реконструкция того архетипического сюжета, к которому возводится действие шекспировской пьесы. Парадокс, требующий методологической рефлексии, состоит в том, что интерпретации, выполненные с опорой на один и тот же метод, приводят к принципиально противоположным и даже взаимоисключающим трактовкам смысла трагедии.
Материал составляют статьи Г.Н. Шелогуровой и И.В. Пешкова «Изобретение античности на пороге нового времени. Хор ratio в “Гамлете” (Античная трагедия героя Возрождения)» и Э.Б. Акимова «К реконструкции шекспировского мифа (“Гамлет”)».
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)
Цель статьи подразумевает описание парадоксальной герменевтической ситуации, связанной с существованием прямо противоположных интерпретаций трагедии Шекспира «Гамлет», выполненных в одной методологии, анализ их методологического обеспечения и опыт разрешения конфликта толкований шекспировского текста.
Обзор научной литературы по теме . Анализируемые исследования не были предметом научного сопоставления на предмет соотношения их интерпретационных результатов.
Методология исследования . Статья опирается на критическую традицию анализа научного сочинения с точки зрения его соответствия принципам научной доказательности, методологической релевантности и убедительности представленных выводов. Важную методологическую опору статьи составляют критика мифокритической методологии и обращение к истории толкования трагедии Шекспира «Гамлет» и истории герменевтики художественного материала.
Результаты исследования. В опоре на мифокритическую методологию авторы анализируемых научных работ приходят к противоположным выводам. Так, основу статьи Г.Н. Шелогуровой и И.В. Пешкова составляет доказательство присутствия в сюжете «Гамлета» мифологемы Ореста: «Ядро мифа об Оресте, убивающем свою мать Клитеместруи ее любовника Эгисфа, чтобы отомстить за своего отца, умерщвленного ими, идеально соответствует сюжетному ядру “Гамлета”», более того, и «внутренняя коллизия древнегреческой “Орестеи” в трагедии Шекспира полностью сохраняется», – пишут исследователи, имея в виду, что Гамлет решает тот же самый вопрос, что и Орест – вопрос «о соотношении родовой вертикали и индивидуально-семейной горизонтали», или вопрос выбора между отцом и матерью [Шелогурова, Пешков, 2008]. Вопрос Ореста: «считать ли убийство матери… справедливым возмездием за убийство мужа, заклавшего дочь?». Вся страсть Гамлета, как пишут Г.Н. Шелогурова и И.В. Пешков, также «направлена против матери», предавшей его отца. Обнаружение этих аналогий позволяет исследователям интерпретировать трагедию Шекспира как трагедию мести, но речь идет не о мести Клавдию-братоубийце (это одна из традиционнейших и самых ранних интерпретаций «Гамлета»), а о мести, направленной Гамлетом на весь свой род за совершенные преступления – братоубийства, прелюбодеяния, а также те, которые, возможно, совершат рожденные им (Гамлетом) потомки. В интерпретации цитируемых исследователей Гамлет – «ученик, а возможно, и преподаватель в Виттенберге», прекрасно знакомый с «Орестеей», – радикально решает поставленную в античной трагедии проблему прекращения бесконечно повторяющихся злодеяний. Осуществляя это намерение, он «покончил со всем проклятым родом: уничтожил дядю… уничтожил свою мать (пусть косвенно, чужими руками), свою любовь и, таким образом, лишил себя возможности “производить на этот свет грешников”» [Шелогурова, Пешков, 2008] – и так в конце концов прервал кровавую цепь мести, о чем и «мечтал» античный сюжет.
В основе интерпретации Э. Акимова, выполненной в той же мифокритической методологии, лежит доказательство присутствия в трагедии Шекспира другого мифологического подтекста – подтекста, связанного с библейским мифом об Иоанне Предтече. Аргументацию этого исследователя, во-первых, образует сопоставление сюжетных коллизий «Гамлета» и мифа об Иоанне: сюжет Гамлета повторяет сюжет об Иоанне, изобличавшем преступную связь царя Ирода и Иродиады. Во-вторых, Э. Акимов обнаруживает в «Гамлете» функционирование мотива усекновения головы, который является главным атрибутом иоанновского мифа. Этот мотив находит разномодальную реализацию в тексте трагедии: пародийную – в сцене с черепом Йорика – и трагическую – в сцене «мышеловки», в которой Гамлет, по мысли Э. Акимова, примеряет на себя миф об Иоанне, преклоняя голову на колени Офелии. В-третьих, сюжетная близость мифа об Иоанне, как он представлен в христианской гимнографии, с трагедией Шекспира аргументируется и событием смерти Офелии в реке, которая, по мысли Акимова, как бы «обыгрывает» смерть Саломеи.
Обнаружение этих аналогий влечет за собой интерпретацию «Гамлета» как трагедии самопожертвования: по мысли Э. Акимова, Гамлет «приходит к осознанию своей двойной миссии – дурака-юрода и вольной жертвы за грехи своих родственников: похоть, убийство, кровосмешение – три порока, которые яростно клеймил св. Иоанн» [Акимов, 2001]. «Третья функция, – пишет Э. Акимов, – мщение… прагматически отменяется... Менее всего готовность Гамлета идти на дуэль с Лаэртом напоминает желание мести. Гамлет здесь скорее страстотерпец, и жертвенная смерть его явно имеет христианское значение. Сам он непостижимо, неправдоподобно (психологически и физически) меняется, “возрастает” ввиду сакрального момента, когда рассуждает о промысле Божием, когда просит прощения у “врага” Лаэрта, когда вдруг оказывается “fat” (как бы не переводилось это слово Гертруды) – тучным, как жертва, готовая к закланию» [Акимов, 2001]. Продолжим цитирование: «С учетом иоанновского мифа по-другому решается вопрос о предназначении Гамлета, о его медлительности и неуверенности, темных речах и патетических обличениях. Он не носитель, но предтеча “новой” правды и “нового” слова, он лишь может призвать к покаянию и очищению. В пространных обличениях Гамлета… величавое и почти единственное поприще» [Там же, 2001]. В результате в контексте сближения Гамлета с Иоанном Э. Акимов расшифровывает его поведение «не как псевдо-шутовское, а как христиански-юродствующее» [Там же, 2001].
Прокомментированные интерпретации приводят к прямо противоположным результатам, одна исключает другую: в рамках первой Гамлет уничтожает свой род во имя благородной цели остановить кровавую цепь убийств, в рамках второй Гамлет приносит себя в жертву во имя искупления грехов своего рода. Прямо противоположные интерпретации – не редкий случай в герменевтике. Вспомним, например, трактовку «Каменного гостя» Пушкина у Г. Гуковского и А. Ахматовой. Г. Гуковский в рамках культурно-исторической методологии приходит
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)
к идее апологетики Дон Гуана у Пушкина (в силу того, что он, дескать, представляет собой свободного человека Возрождения, бросившего вызов средневековым догмам) [Гуковский, 1957]. А. Ахматова, опираясь на биографическую методологию, приходит к прямо противоположному выводу, трактуя пьесу Пушкина как трагедию возмездия герою-преступнику [Ахматова, 1958].
Однако тот случай, который мы разбираем, – особый. Здесь принципиально разные результаты достигнуты в использовании одной методологии. Можно предположить, что этот случай свидетельствует или о недостатках методологии (и ее применения), или же об особом качестве самого текста, допускающем присвоение взаимоисключающих смыслов. Начнем со второго пункта. Конечно, герменевтическая история «Гамлета» включает в себя самые разные трактовки, и мы знаем, что возможность прочитать текст по-разному составляет особое свойство глубокой литературы. Но все-таки взаимоисключающие реализации смысла подрывают саму идею его устойчивого наличия, неизбежно склоняя нас в сторону постструктуралистской концепции о том, что в тексте хаотически сочетаются между собой самые разные смыслы, и потому в «Гамлета» можно «влить» любую семантику, что обессмысливает саму герменевтическую работу. Поэтому кажется, что одна из приведенных трактовок должна быть заметно более уязвима, нежели другая.
Проблема в том и состоит, что обе интерпретации убедительны и базируются на достаточной аргументации, что исключает выбор между ними более или менее адекватной, более или менее верной.
Тогда подвела методология? Вполне возможно. Мифокритическая методология – методология редуцирующая: она нацеливает герменевта на поиск исключительного «мифологического кода» (Н. Фрай), лежащего в основе сюжета интерпретируемого произведения. В этом плане она напоминает интертекстуальную методологию в ее первоначальном французском варианте (варианте Ю. Кри-стевой), когда ассоциация с другим текстом предлагалась в качестве основного фактора понимания текста интерпретируемого. В рамках этой – ассоциативной герменевтики (позволим себе такое наименование) – как раз и санкционируется возможность любого прочтения. Мифокритик тоже опирается на ассоциации, просто его ассоциативный фон ограничен мифологическими сюжетами.
Как пишет Е.А. Ермолин, характеризуя методологию британской мифокритической школы, ее «исследовательская технология не всегда была убедительной и продуктивной, не в последнюю очередь вследствие ограниченности объяснительной базы, представляющей собой в основном… догадки» [Ермолин, 2009, c. 155]. (Кстати, сама идея о том, что мифологическим прасюжетом «Гамлета» является миф об Оресте, возникла именно в недрах кембриджской мысли, давшей начало мифокритическому направлению в герменевтике [Murray, 1957].) Об ассоциативной почве мифокритических реконструкций художественного смысла пишет и А.С. Козлов, специалист по истории мифокритического направления в английском и американском литературоведении [Козлов, 2004а]:
«Мифокритическая методология, будучи изначально плюралистической, открывает широкие возможности скорее для творческой, чем для строго научной критики» [Козлов 2004б, с. 262]. Г.К. Косиков также писал о недостаточности рационально-логической, научной базы мифокритического подхода, выделяя такие его уязвимые стороны, как «сознательное преуменьшение индивидуального начала в искусстве, сведение его к общему и повторяющемуся, <…> мифологический редукционизм и, главное, забвение того очевидного факта, что любые сверхличные символы и трансисторические архетипы способны быть только “языком” искусства, а не его непосредственной, целенаправленной “речью”, что, как ни суди, помимо конкретного автора – с его внутренним миром, сознанием и волей – произведение возникнуть не может и что прямым и основным импульсом к возникновению этого произведения является не стремление вневременных и бессознательных сил найти себе выход, а сознательное намерение автора поставить вопросы современности и осмыслить окружающую действительность» [Косиков, 1987, с. 26].
Уязвимость и ассоциативность разбираемых нами мифокритических интерпретаций «Гамлета» в первую очередь связана с тем, что шекспировская трагедия не содержит прямых отсылок к тем текстам, которые могли бы выступать источниками авторского знания о привлекаемых для интерпретации мифах. Так, вопрос о цитатах «Орестеи» в «Гамлете» вовсе не является решенным в науке: при всех сюжетных совпадениях прямых цитат все-таки нет, шекспироведы не уверены, читал ли Шекспир античные источники на греческом или их переводы на латынь.
Также нет в «Гамлете» и цитат из Священного Писания, что позволило бы настаивать на присутствии в трагедии Шекспира иоанновского мифа: у Э. Акимова речь идет о мотивных и сюжетных совпадениях. Значит, в основе декодирования «Гамлета» у Г. Шелогуровой и И. Пешкова, как и у Э. Акимова, лежит привлечение ассоциативно подобного словесного материала. Впрочем, мы знаем, насколько важна в деятельности интерпретатора интуиция, базирующаяся на глубоком знании художественной традиции. Наличие дивинационной, логически и рационально необъяснимой составляющей в работе герменевта было обосновано еще в начале XIX в. в герменевтической теории Ф. Шлейермахера и впоследствии развито в концепциях М. Хайдеггера и Г.-Г. Гадамера, доказавших принципиальную субъективность понимания художественного.
Обсуждение результатов . Учитывая вышесказанное, мы не можем разрешить конфликт между двумя разбираемыми интерпретациями «Гамлета» путем выбора той, которая бы более соответствовала тому спектру смыслов, которые предлагает шекспировский текст. Поэтому мы предлагаем другой путь: совместить эти трактовки, признать каждую из них важным, но не исключительным опытом понимания трагедии. История мифокритической герменевтики знает подобные примеры совмещения разных мифов, выдвигаемых в качестве возможного прасюжета интерпретируемого материала, когда сама их совокупность рассматривается как поддерживающая многосмысленную семантику произведения.
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)
Предположим, что каждая из рассматриваемых реконструкций касается не целостного смысла гамлетовской ситуации, а ее отдельного самостоятельного аспекта и гамлетовская ситуация характеризуется самим конфликтом этих двух моделей – орестеевской и иоанновской. Это конфликт в сознании трагического героя, который, решая вопрос необходимости мести роду, в то же время приносит себя в жертву самой мести. Сама месть Гамлета жертвенна, ведь по ходу трагедийного действия он отказывается от любви, предает возлюбленную, становится виновником ее смерти. Причем о преображении Гамлета после гибели Офелии пишут и И. Пешков (в другом сочинении [Пешков]), и Э. Акимов, правда, опять принципиально по-разному. И. Пешков подчеркивает захлестнувшее Гамлета безучастие к вопросу мести (очевидно, в силу того что заплатить за нее пришлось невыносимо высокую цену) и начало распада личности героя: «вся его решимость пятого акта – скорее стремление отдать себя воле Провидения. Все его поведение до самого рокового конца свидетельствует уже не о ролевой мстительности, а о внемасковом смирении» [Пешков]. Акимов, наоборот, подчеркивает моральное «возрастание» Гамлета.
М. Гершензон, анализируя внутренний конфликт, представленный в «Моей тайне» Петрарки, описал его как конфликт языческой и христианской моделей: это конфликт «между Мадонной и Лаурой, между Цицероном и Христом, между жаждой счастья и жаждой спасения» [Гершензон, 2012, с. 210]. Подобным образом – через привлечение мифологических моделей, эксплицитно присутствующих в тексте, – можно описать и конфликт в сознании Гамлета – как конфликт между Орестом и Иоанном. В этом случае мы интерпретируем не саму трагедию Шекспира и не ищем ее источники (на что нацелены обе рассмотренные интерпретации, как, впрочем, и мифокритический метод в целом), а характеризуем тот разлад в сознании, носителем которого является герой. Так нам не придется выбирать между орестеевским и иоанновским мифом и между двумя равнодостойными интерпретациями, за каждой из которых, кстати, стоит целая традиция, что тоже нельзя игнорировать и что тоже делает крайне сомнительной идею выбора между двумя взаимоисключающими толкованиями. Так, мысль о Гамлете как новом Оресте была обоснована одним из основоположников мифокритического метода в британской науке Гилбертом Мюрреем – в 10-е гг. XX в. [Murray, 1957]. И вслед за ним о сходстве ситуаций Гамлета и Ореста писали многие (об этом: [Шелогурова, Пешков, 2008]).
Также многие говорили и о христианском начале в образе Гамлета. В отечественной мысли – начиная со свящ. П. Флоренского, описавшего Гамлета как носителя «двойного религиозного сознания», на которого возложена «непосильная миссия» перехода к христианскому мировоззрению, с которой он не справился: Гамлет «не сделался христианином, [но]… не мог быть язычником», хотя «боролся до конца» [Флоренский, 1994, с. 279]. Конфликт между Орестом и Иоанном, в риторике которого мы пытались описать сознание Гамлета на основе анализа конфликта двух мифокритических интерпретаций трагедии, – возможный вариант наименования того феномена, о котором писал свящ. П. Флоренский.
Сошлемся и на книгу В.П. Комаровой «Шекспир и Библия» [Комарова, 1998], которая обнаруживает в монологах Гамлета ряд парафраз из Нового Завета, впрочем, оспаривая более раннюю практику видеть в библейском тексте единственный источник суждений Гамлета, так как ряд из них восходит к сочинениям античных авторов.
В то же время есть работы, авторы которых рассматривают Гамлета исключительно как носителя христианской религиозности. Так, как героя, сознательно приносящего себя в жертву, Гамлета описывает Л.С. Чернов, убедительно уточняя и другие толкования, настаивающие на христианском содержании трагедии [Чернов, 2012].
Заключение . Анализ герменевтической традиции понимания «Гамлета» показывает, что трагедия Шекспира нередко интерпретируется как текст, репрезентирующий христианское миропонимание. Не менее объемно в мифокритике представлена и традиция обнаружения в шекспировском тексте античного субстрата. При этом можно говорить и о достаточно убедительной практике выявления в трагедии противоречивого сочетания античного и христианского начал. Все эти исследования опираются на методологию выявления древнего прасюжета исследуемого текста. Однако, если проблематизировать не поиск мифологических источников, на которые мог ориентироваться Шекспир, а сам характер представления им героя, мы можем снять конфликт между прямо противоположными трактовками трагедии и перенести акцент на понимание сознания героя как сознания, разорванного между двумя моделями – орестеевской и иоанновской, языческой и христианской.