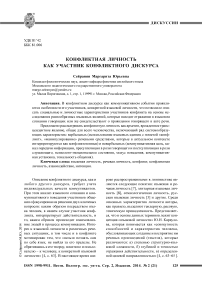Конфликтная личность как участник конфликтного дискурса
Автор: Сейранян Маргарита Юрьевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 2 (21), 2014 года.
Бесплатный доступ
В конфликтном дискурсе как коммуникативном событии проявляются особенности его участников, конкретной языковой личности, что позволило описать социальные и личностные характеристики участников конфликта на основе исследования разнообразных языковых явлений, которые находят отражение в языковом сознании говорящих или же свидетельствуют о проявлении говорящего в акте речи. Предложено рассматривать конфликтную личность как архетип, врожденное трансцендентное явление, общее для всего человечества, включающий ряд системообразующих характеристик: вербальных (использование языковых единиц с пометой «конфликт», «манипулирование» речевыми средствами, которые в актуальном контексте интерпретируются как конфликтогенные) и невербальных (коммуникативная цель, канал передачи информации, пресуппозиция в роли говорящего и постсуппозиция в роли слушающего, психолого-эмоциональное состояние, модус поведения, коммуникативная установка, тональность общения).
Языковая личность, речевая личность, конфликт, конфликтная личность, взаимодействие, интенция
Короткий адрес: https://sciup.org/14969762
IDR: 14969762 | УДК: 8142 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2014.2.17
Текст научной статьи Конфликтная личность как участник конфликтного дискурса
Описание конфликтного дискурса, как и любого другого дискурса, требует учета индивидуальных качеств коммуникантов. При этом анализ языкового сознания и коммуникативного поведения участников общения сфокусирован на решении двух ключевых вопросов: каким образом посредством языка человек, в нашем случае участник конфликта, интерпретирует действительность, и то, каким образом происходит взаимовлияние людей в процессе коммуникации. Интерес к языковой личности в различных речевых ситуациях, в том числе и в конфликте мотивирован тем, что «нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы. Не обратившись к его творцу, носителю и пользователю – к человеку, к конкретной языковой личности» [4, с. 63]. В настоящее время ши- роко распространенными в лингвистике являются следующие понятия: языковая и речевая личность [7], элитарная языковая личность [8], семиологическая личность, русская языковая личность [3] и другие. Среди основных характеристик личности авторы, как правило, выделяют гендерную, расовую, этническую принадлежность. Представляется, что в основе данных терминов лежит концепция «языковой личности» Ю.Н. Караулова, которая понимается как «совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются: а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью» [4, с. 63–65 ].
«Структура языковой личности представляется состоящей из трех уровней: 1) вербально-семантического, предполагающего для носителя нормальное владение естественным языком, а для исследователя – традиционное описание формальных средств выражения определенных значений; 2) когнитивного, единицами которого являются понятия, идеи, концепты, складывающиеся у каждой языковой индивидуальности в более или менее упорядоченную, более или менее систематизированную «картину мира», отражающую иерархию ценностей; 3) прагматического, заключающего цели, мотивы, интересы, установки и интенциональности. Этот уровень обеспечивает в анализе языковой личности закономерный и обусловленный переход от оценок ее речевой деятельности к осмыслению реальной деятельности в мире» [3, с. 3–8].
Таким образом, «языковая личность выступает как многокомпонентный структурно упорядоченный набор языковых способностей, умений, готовностей производить и воспринимать сообщения» [там же, с. 71]. Однако в каждом конкретном случае проявляются различные сочетания компонентов, индивидуальные способы коммуникативных действий и умений. Актуализация выделенных характеристик коммуникативной личности происходит одновременно посредством специфических механизмов речемыслительной деятельности. Они обеспечивают установление и поддержание контакта, определение намерений партнера, формирование как прямых, так и обратных связей, самокоррекцию, взаимодействие речевых и неречевых средств. В результате действия перечисленных процессов актуализируются практически все социологические доминанты интеракции. Поскольку ситуативные условия коммуникации постоянно меняются, наиболее сложным механизмом становится для говорящего движение от единиц системы языка к коммуникативным единицам.
В этой связи мы, вслед за В.В. Красных, признаем, что говорящий в каждый момент своей речевой деятельности, предстает одновременно в трех ипостасях, как:
– языковая личность – личность, проявляющая себя в речевой деятельности, обладающая определенной совокупностью знаний и представлений;
– речевая личность – личность, реализующая себя в коммуникации, выбирающая или осуществляющая ту или иную стратегию или тактику общения, выбирающая и использующая тот или иной репертуар средств (лингвистических и экстралингвистических);
– коммуникативная личность – конкретный участник конкретного коммуникативного акта, реально действующий в реальной коммуникации [5, с. 40–52].
Таким образом, изменяющаяся природа говорящего обусловлена как собственно индивидуальными его характеристиками, так и контекстом ситуации. Учитывая социокультурную обусловленность коммуникативного поведения, встроенность в ситуацию общения, можно говорить о том, что в любой момент общения человек невольно сообщает о себе значимую информацию. Это относится как к статусным характеристикам – гендер, возраст, групповая идентичность и т. д., так и к ситуативным – степень серьезности, искренности и т. д. Релевантным в данном контексте представляется анализ личности через призму семиотического подхода, «сквозь создание и дискурсивное оперирование текстовыми жанрами, стандартными формами представления информации» [10, с. 203]. В этом смысле деятельность личности приравнивается к семиотическому акту и является средством передачи личной информации, поскольку каждая личность характеризуется своей индивидуальной иерархией ценностных установок и предпочтений. При этом существуют некоторые доминантные признаки, определяемые национально-культурной традицией и господствующей в обществе идеологией.
Сознание человека формируется и функционирует в знаковом материале, который создается в процессе социального общения. «Индивид, как собственник содержаний своего сознания, как автор своих мыслей является чистым социально-идеологическим явлением» [1, с. 6]. Такое понимание личности позволяет выявлять и рассматривать отдельные группы носителей языка, имеющих сходные речеповеденческие проявления.
Устойчивый стиль поведения в конфликтных ситуациях, характерный для определенного типа личности, также формируется и индивидуальными, и социальными ее свойства- ми. При этом индивидуальное и социальное в сознании участника конфликта – «диалектически взаимосвязанные характеристики» [9, с. 6]. Анализ специфики конфликтной речевой личности был бы неполным без обращения к классификациям, представленным в работах по конфликтологии и психологии. Так, в юридической конфликтологии (см., например: [2]) выделяется три основных типа личности:
-
1 . Деструктивный (субъект склонен к развертыванию конфликта и усилению его, к установлению своего господства, к подчинению другого человека, его интересов своим, к унижению другой стороны вплоть до полного его подавления и разрушения).
-
2 . Конформный (субъект пассивен, склонен уступать, подчиняться; поведение такого субъекта опасно, так как способствует и содействует чужим агрессивным действиям, однако, в отдельных случаях уступка и компромисс являются единственным эффективным способом остановить конфликт).
-
3 . Конструктивный (субъект этого типа поведения стремится погасить конфликт, найти решение, приемлемое для обеих сторон) [там же, с. 122–124].
Представленные типы соотносятся с психологическими типами коммуникантов, описанными в работах В.Г. Норакидзе. По его мнению, структура личности коммуникантов коррелирует с установкой и характером личности. Определив основные типы фиксированной (закрепленной через повторение) установки, исследователь на их основе описал три психологических типа людей: цельные с динамической, конфликтные со статической и импульсивные с вариабельной установкой [6, с. 119–127]. Свой набор признаков, определяющих характерологические черты личности, имеет каждый из указанных типов.
В контексте нашего исследования конфликтная личность определяется с учетом диалектического взаимодействия внешних (социальных) и внутренних (духовных, психологических, индивидуальных) факторов. К внешним факторам относятся этнокультурные и профессиональные традиции и нормы; конвенции, существующие в том социуме, к которому принадлежит говорящий; социально значимые и усвоенные личностью речеповеденческие схемы, социальные роли коммуникантов, детерминированные возрастом, образованием, национальностью, социальным статусом, профессией и др. К внутренним факторам относим такие, которые обусловлены качествами самих субъектов: типом личности (психологическим и коммуникативным), интересами, мотивами, интенциями, установками и взглядами участников конфликта и др. Динамика и контекстуальная обусловленность порождения и восприятия конфликтного дискурса позволяет расценивать личность как контекстуальную систему (пространство) – целый комплекс лингвистических, когнитивных, социальных, культурных и пр. навыков и знаний, которые в дальнейшем выступают в качестве факторов, регулирующих поведение в реальном акте интеракции.
Таким образом, конфликтная личность может изучаться не как еще одно проявление, наряду, например, с «экономической», «этической» и т. п. личностью, а как «вид полноценного представления личности, вмещающий в себя и психический, и социальный, и этический и другие компоненты, но преломленные через ее язык, ее дискурс» [4, с. 64].
Более того, с учетом изменчивой природы данной категории можно установить степень проявления конфликтности поведения в различных дискурсах, иными словами, разграничить конфликтную личность как участника непосредственного конфликта и конфликтную личность как участника взаимодействия, изначально построенного по принципу гармонизации. Критерием конфликтности можно считать уровень реакций реципиента (их неконтролируемости, интенсивности, агрессивности), проявляемых в ответ на речевое воздействие, которое направлено на него (или и на него тоже). Например, конфликтный манипулятор, так называемый «психологический вампир», видит в собеседнике, прежде всего, объект самоутверждения – конфликтная манипуляция манифестируется в косвенной агрессии посредством тактик колкости, скрытой угрозы, обиды.
В связи с разделением конфликтов на конструктивный и деструктивный мы разграничиваем деструктивно- и конструктивно-конфликтные личности и признаем способность к перемене данного качества в зависимости от реального контекста ситуации. Такая ла- бильность означает, что агональность, стра-тагемность поведения индивида либо усиливает положительную сторону конфликта как единственного способа решения проблемы, либо, наоборот, провоцирует (эскалирует) противостояние и переводит противоборство в фазу неразрешимости.
Суммируя вышеизложенное, мы приходим к выводу, что конфликтной личности присущи следующие черты:
-
– единство психологического и социального начал : с одной стороны, любая личность идентифицируется как индивидуальность, с другой стороны, личность всегда оценивается в социальном контексте;
-
– эмоциональность : рациональные действия, способности и навыки человека так или иначе эмоционально обусловлены;
-
– способность к контролю и управлению : деятельность человека подразумевает как самоконтроль, так и контроль окружением – от простого отслеживания событий и действий окружающих до воздействия и манипулирования;
-
– способность к адаптации, гибкости : индивиду свойственна изменчивость социальной роли и статуса, следовательно, развитие личности имеет динамичный характер;
-
– духовность : в каждом человеке заложена способность к самосовершенствованию, которая может быть реализована в процессе обучения, самопознания и развития своих исключительных способностей.
Итак, конфликтную личность можно расценивать как архетип, врожденное трансцендентное явление, общее для всего человечества, и установить ряд системообразующих характеристик как вербального, так и невербального порядка. К вербальным мы относим использование языковых единиц с пометой «конфликт», а также «манипулирование» такими речевыми средствами, которые в актуальном контексте интерпретируются как конфликтогенные. К невербальным характеристикам относим коммуникативную цель, канал передачи, пресуппозицию (в роли говорящего) и постсуппозицию (в роли слушающего), психолого-эмоциональное состояние, модус поведения, коммуникативную установку, тональность общения.
Список литературы Конфликтная личность как участник конфликтного дискурса
- Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика/Р. Барт. -М.: Прогресс, 1994. -616 с.
- Дмитриев, А. В. Юридическая конфликтология. В 3 ч. Ч. 1. Введение в общую теорию конфликтов/А. В. Дмитриев, В. П. Кудрявцев, С. В. Кудрявцев. -М.: ИНИОН РАН, 1993. -220 c.
- Караулов, Ю. Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения/Ю. Н. Караулов//Язык и личность. -М.: Наука, 1989. -283 с.
- Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность/Ю. Н. Караулов. -М.: Наука, 1987. -264 с.
- Красных, В. В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. Курс лекций/В. В. Красных. -М.: Гнозис, 2001. -270 c.
- Норакидзе, В. Г. Методы исследования характера личности/В. Г. Норакидзе. -Тбилиси: Мецниереба, 1975. -307 c.
- Прохоров, Ю. Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль при обучении русскому языку иностранцев/Ю. Е. Прохоров. -М.: Изд-во ЛКИ, 1998. -270 с.
- Сиротинина, О. Б. Некоторые размышления по поводу терминов «речевой жанр» и «риторический жанр»/О. Б. Сиротинина//Жанры речи. -Саратов: Колледж, 1999. -С. 26-31.
- Степанов, Ю. С. Альтернативный мир, Дискурс, факт и принцип причинности/Ю. С. Степанов//Язык и наука конца 20 века. -М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995. -С. 35-73.
- Blommaert, J. Discourse/J. Blommaert. -Cambridge: Cambridge University press, 2005. -299 p.