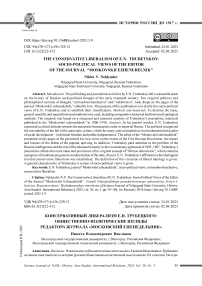Консервативный либерализм Е.Н. Трубецкого: общественно-политические взгляды редактора журнала «Московский еженедельник»
Автор: Неклюдов Н.В.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: История России до 1917 г.
Статья в выпуске: 3 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Издательско-публицистическая деятельность Евгения Николаевича Трубецкого оставила заметный след в истории русской общественно-политической мысли начала ХХ столетия. На страницах редактируемого им журнала «Московский еженедельник» оформились два самобытных политикофилософских течения – «мирнообновленчество» и «веховство». Цель настоящей публикации заключается в выяснении общественно-политических взглядов Е.Н. Трубецкого и установлении их классификации. Методы и материалы. Для раскрытия темы использованы общенаучные, а также специально-исторические методы: сравнительно-исторический и историко-типологический. Основу исследования составил структурно-смысловой анализ публицистических материалов Трубецкого, изданных в «Московском еженедельнике» в 1906–1910 годах. Анализ. В своих журнальных статьях Е.Н. Трубецкой выразил критическое отношение к самодержавно-бюрократическим порядкам в имперской России. Публицист признал неизбежность падения самодержавного строя, попиравшего долгие годы два фундаментальных принципа социального развития – свободы личности и самостоятельности общественности. Редактор «Московского еженедельника» представил на страницах периодического издания собственные взгляды на события Первой русской революции, характер и причины поражения народного восстания. Кроме того, Трубецкой уделил внимание проблеме русской интеллигенции и роли образованного меньшинства в революционных потрясениях 1905–1907 годов. В публицистике Трубецкого отражены основные идеи и положения его оригинальной концепции «мирного обновления», содержащей программу умеренно-прогрессивной модернизации государства. Результаты. Была установлена принадлежность Е.Н. Трубецкого к идейному направлению консервативного либерализма. Приведено определение данной вариации либеральной идеологии. Дана общая характеристика системы общественно-политических взглядов Трубецкого.
Е.Н. Трубецкой, журнал «Московский еженедельник», общественно-политические взгляды, мирнообновленчество, консервативный либерализм
Короткий адрес: https://sciup.org/149148812
IDR: 149148812 | УДК: 94(470+571)«19»:329.12 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.3.9
Текст научной статьи Консервативный либерализм Е.Н. Трубецкого: общественно-политические взгляды редактора журнала «Московский еженедельник»
DOI:
Цитирование. Неклюдов Н. В. Консервативный либерализм Е.Н. Трубецкого: общественно-политические взгляды редактора журнала «Московский еженедельник» // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 3. – С. 95–106. – DOI:
Введение. Евгений Николаевич Трубецкой (1863–1920) – русский религиозный философ, профессор Императорского Московского университета, член Государственного совета (1907–1908, 1915–1917), активный участник земского движения, идеолог либеральных партий «Народная свобода» и «Мирное обновление». Широкую известность у современников Е.Н. Трубецкой снискал издательско-публицистической деятельностью, пик которой пришелся на нестабильные годы первой русской революции. В условиях острого политического кризиса был выпущен в свет журнал «Московский еженедельник» (1906–1910), в котором редактор Трубецкой изложил собственную программу достижения социального согласия путем умеренно-прогрессивного реформирования государства. По историческим меркам журнал просуществовал недолго, но, вопреки скоротечному закрытию, на страницах его успели оформиться самобытные направления философской и общественно-политической мысли – «мирнообновленчество» и «веховство».
Идейная платформа журнала «Московский еженедельник» лишь однажды становилась предметом специального исследования.
Советский историк Н.А. Балашова, опираясь на марксистскую методологию классового анализа, пришла к заключению, что издание Е.Н. Трубецкого служило «рупором контрреволюционной идеологии» либерально-монархических кругов буржуазии и помещиков. Балашова раскрыла в монографии программное родство журнала со сборником «Вехи». Однако принцип партийности, лежащий в основе исследования, не позволил автору объективно отразить широкий спектр мнений и позиций, представленных на страницах издания. В настоящее время необходимо критически переосмыслить выводы историка о недемок-ратичности журнальной платформы и несоответствии ее «объективному ходу экономического и политического развития страны» [2, с. 176].
Традиционные для советской науки клише о Трубецком-политике были отвергнуты в исследовании Н.В. Нехамкиной, пришедшей к заключению, что общественно-политический идеал редактора «Московского еженедельника» составлял «либеральный христианский демократизм» [7, с. 4]. Изучение проблемы продолжил самарский историк Е.С. Досекин, признавший существенное влияние «интел- лектуального христианского демократизма» Е.Н. Трубецкого на развитие либеральной мысли в России. Исследователь, мы полагаем, весьма поспешно определил Трубецкого «последовательным сторонником европейского либерализма» [5, с. 100]. Представляет интерес вступительная статья О.В. Волобуева и А.Ю. Морозова к сборнику избранных политико-философских сочинений братьев С.Н. и Е.Н. Трубецких [3]. В этой работе авторы реконструировали процесс становления философских и политических воззрений видных мыслителей, прослеживая эволюцию их взглядов на разных жизненных этапах. Историки отметили тесное переплетение философских и политико-правовых идей Е.Н. Трубецкого и пришли к заключению, что братья Трубецкие, являясь по взглядам консервативными либералами, разделяли западнический идеал конституционной монархии, но занимали консервативную позицию в тактических вопросах организации государственного переустройства. Отдельные элементы политической программы Е.Н. Трубецкого раскрыты в статье С.М. Половинкина [9]. В исследовании подчеркивается кооперативная направленность практики и теоретических построений Трубецкого, выражавшаяся в стойком стремлении привнести в российскую политику христианские идеалы правды и справедливости. Внимания заслуживает совместная статья О.В. Волобуева и Н.Б. Хайловой, раскрывающая некоторые черты политического портрета Е.Н. Трубецкого сквозь призму его концепции «мирного обновления» [4]. Однако, как представляется, ограниченный круг первоисточников не позволил авторам в полной мере реализовать свой замысел. Таким образом, состояние историографической ситуации дает основание говорить о перспективности дальнейшего комплексного исследования политических воззрений Трубецкого и определения их места в системе политических координат.
Целью настоящей публикации является выяснение общественно-политических взглядов Е.Н. Трубецкого и, в частности, выявление доминантных идей и положений его «мирнообновленческой» концепции модернизации государственного строя России, а также установление их классификации.
Методы и материалы. Методологический инструментарий работы составили общенаучные (синтез, анализ, обобщение) и специально-исторические методы исследования: сравнительно-исторический и историко-типологический. Структурно-смысловой анализ первоисточников позволил определить идейно-политическую принадлежность Е.Н. Трубецкого, а также выявить специфические особенности его политико-философской концепции. Источниковая база исследования – публицистические материалы Трубецкого, напечатанные в «Московском еженедельнике» за четыре года издания журнала (март 1906 – август 1910).
Анализ. В программной статье «Московского еженедельника», вышедшего на арену идейно-политической борьбы в годы первой русской революции, Евгений Николаевич Трубецкой обратился к российскому обществу с призывом осмысления собственного исторического опыта. Он писал, что для успешного определения нового вектора общественнополитического развития народу надлежало понять подлинные причины «крушения» самодержавного строя [6, с. 2].
Е.Н. Трубецкой возложил историческую вину на российское самодержавие за последовательное отрицание универсальных, общечеловеческих начал. К их числу он относил принципы правового порядка, христианские нравственные начала и ценности «сверхнародной» культуры. Самодержавная власть, по мнению публициста, разместила на своем знамени «преходящие местные ценности – архаическую форму правления, византийское искажение христианства, бытовые особенности господствующего племени» [6, с. 5]. Реакционная политика «старого порядка», не связывающего своего существования с нравственными ценностями, неотступно вела к нарастанию социальной дезорганизации.
Всеобщее разобщение – наиболее характерная черта самодержавного строя для Е.Н. Трубецкого. В обществе, построенном на принципе сословной исключительности, практически отсутствовала органическая связь между людьми. Представители высших эшелонов власти, лишенные «общественного чутья» [33, с. 229], выражали полнейшее равнодушие к нуждам народа. Их заботы, как заметил публицист, не шли далее поддержания положения имущих и господствующих классов. Страшный «грех» самодержавия заключался в решительном подавлении любых зачатков общественной инициативы и самостоятельности. Для власти, писал Трубецкой, само понятие общества служило синонимом «недозволительного» и «преступного» [6, с. 2]. Логическим следствием политики, запрещающей подданным Российской империи заботиться об общем благе, явилось укоренение классового эгоизма в сознании всех слоев населения.
Внутренний разлад российского социума усугубила недальновидная политика самодержавного правительства в отношении инородцев и жителей национальных окраин империи. Насильственная русификация, направленная на лишение нерусских народностей «индивидуальной физиономии», лишь сильнее расшатала общественный фундамент – поспособствовала росту националистических чувств и сепаратистских настроений.
На основании вышеизложенного можно заключить, что источником гибели самодержавия Е.Н. Трубецкой определил процесс его внутреннего разложения. В частности, внешнее единство власти скрывало в глубине своей анархию противоположных стремлений и интересов: рознь сословий, классов, народностей; конфликт правительства с обществом; разлад между отдельными правительственными ведомствами. Трубецкой признал закономерным выступление народа против самодержавно-бюрократического строя, являвшегося по сути своей «антиправовым, антихристианским и бесчеловечным» [6, с. 5]. Однако христианское мировоззрение и стойкие политические убеждения, выражавшиеся в категорическом неприятии насильственных методов радикальной ломки социальных порядков, исключили возможность его личного участия в революционных акциях 1905–1907 годов.
Редактор «Московского еженедельника» представил в журнале критический анализ событий Первой русской революции, завершившейся, по его мнению, фактическим поражением освободительного движения и установлением «мнимоконституционного» режима думской монархии. Революция, как считал Трубецкой, так и не приобрела «общенародный» характер, оставаясь по форме разновидностью
«классового междоусобия» [29, с. 6], при котором различные социальные группы преследовали свои сословные и узкопартийные интересы. Революционный «вихрь», пронесшийся по стране, представлял собой стихийное движение, лишенное единой цели и определяющей идеологии. Следовательно, провал народного восстания был обусловлен, по Трубецкому, отсутствием в рядах оппозиции независимой силы, способной предложить обществу положительный идеал будущего и направить его энергию в конструктивное русло.
Кровавые эксцессы революционных лет, по мысли Е.Н. Трубецкого, явились прямым следствием «духовной болезни» общества и, в частности, радикальной интеллигенции, определявшей характер и направление освободительной борьбы. Симптомами духовного недуга интеллигенции публицист определил атеизм и материализм , отщепенство , доктринерство и фанатизм , а также максимализм , выражавшийся в формуле «все или ничего» [26, с. 4]. Перманентное впадение в крайности сводилось к тому, что русские радикалы на практике отвергали любые умеренные преобразования и уступки правительства. В этом категоричном отрицании «относительного» Трубецкой видел главную опасность всему освободительному делу в России. В своих статьях он стремился донести до читателей мысль, что «путь к идеалу есть ле-ствица», а потому в деле государственного обновления следует приветствовать «всякое относительное усовершенствование» [16, стб. 15]. Таким образом, позиция Трубецкого в отношении миросозерцания, идеологии и политической практики радикальной интеллигенции носила сугубо критический характер. Мыслитель, по нашему глубокому убеждению, внес своей публицистической деятельностью весомый вклад в оформление веховской идеологии и концепции русской интеллигенции.
Проведенный нами фронтальный анализ публицистических материалов Е.Н. Трубецкого, напечатанных в журнале «Московский еженедельник», позволил выявить доминантные идеи и положения его политико-философской концепции «мира и обновления» или «мирного обновления» (по наименованию партийной организации, возникшей в 1906 г.). Название, как представляется, удачно отражает ее стержневой замысел – достижение социального, или классового, национального согласия в стране путем мирного преобразования всех сфер общественной жизни.
Начнем рассмотрение содержания данной концепции с детального анализа ее ключевого компонента – программы реформирования государственного аппарата в России. Итак, политический идеал Е.Н. Трубецкого составляла парламентарная конституционная монархия . Редактор «Московского еженедельника» взывал со страниц своего периодического издания об осуществлении широкой модернизации основ государственного строя исключительно легальными средствами законотворческой работы народного представительства. В канун созыва Первой Государственной думы публицист заявлял об острой потребности преобразования Российской империи в подлинное правовое государство , для чего поручал депутатам «переустроить сверху донизу на конституционных началах все... государственное здание» [27, с. 103].
Е.Н. Трубецкой отдавал предпочтение именно парламентской системе организации верховной власти, при которой высший представительный орган наделен исключительным правом принятия важнейших управленческих решений в форме законов. Вывести страну из острого политического кризиса, как он считал, могли только народные избранники, выражающие подлинные интересы всех слоев общества. В переходный период российской истории Государственной Думе надлежало стать «сердцем государственного организма» [12, с. 6], центром общественной и политической жизни. Трубецкой объяснял, что устойчивое положение народного представительства в государственном механизме обуславливается наличием прочных общественных и национальных связей, тогда как связи эти формируются в процессе многолетней законодательной работы. Следовательно, парламентская деятельность должна приобрести «силу обычая» [31, с. 7] и стать частью политической культуры народа.
Непреложным условием исполнения Государственной Думой своей исторической миссии являлось оформление в стенах народного представительства устойчивого «конституционного центра» из фракций либерального направления.
Трубецкой открыто заявлял, что большинство в Думе должно принадлежать сторонникам «легальной» и «конституционной» [30, с. 6] ответственной оппозиции, способной «сделать прочным свое положение и провести в жизнь... начала права и свободы» [1, с. 3]. Думскому «центру» в условиях открытого противоборства апологетов «революции» и поборников «старого порядка» более других полагалось позаботиться о сохранении порядка и законности.
Е.Н. Трубецкой настаивал на введении в Российской империи политической ответственности правительства перед Государственной Думой. Вотум доверия думского большинства, в соответствии с теорией парламентаризма, публицист рассматривал в качестве основного источника легитимности министерской власти. В свою очередь, это предопределяло обязательство правительства выходить в отставку в случае утраты доверия со стороны народного представительства.
В переломный период исторического развития в России должно было оформиться «конституционное» министерство, всецело поддерживающее реформаторский курс Думы. Страна нуждалась в правительстве, способном «стать во главе освободительного движения и проводить в жизнь демократические преобразования» [33, с. 230]. Следовательно, принципиальное значение имел персональный состав органа исполнительной власти. Так, в правительство, по замыслу Е.Н. Трубецкого, могли войти представители думского большинства [28, с. 295] или почтенные общественные деятели [21, с. 262]. Лишь в этом случае министерский кабинет мог исполнить посредническую роль объединяющего начала: связать монарха с думой, наладить совместную деятельность партийных организаций.
Публицистика редактора «Московского еженедельника» не содержит конкретной информации о месте и политической роли монарха при парламентарном устройстве государства. Проливает свет на данный вопрос программа Партии мирного обновления, в ЦК которой Трубецкой входил с 1906 года. Так, во второй статье документа говорится об участии государя в отправлении законодательной власти: «все вновь издаваемые законы, как основной, так и другие, требуют согласия народного представительства и утверждения императора» [8, с. 3]. В том же порядке может происходить изменение, дополнение или отмена действующего закона.
В напряженных условиях политического кризиса Е.Н. Трубецкой писал в журнале о неотложной необходимости преобразования государственного строя в России на началах всеобщей равноправности . Требование уравнения в правах всех подданных российской короны Трубецкой выводил из религиозных оснований, предполагающих признание «образа Божия во всяком человеке», а также «всеобщего царственного достоинства» людей. Ведь личность как одухотворенная и свободная сущность – «сама по себе цель», а следовательно, представляет «безусловную» ценность и не может быть низведена на степень средства [14, с. 41].
Миропонимание Е.Н. Трубецкого в большей степени соотносится с философским направлением персонализма , представители которого не противопоставляют свободные личности друг другу (как в индивидуализме), а признают полезность их взаимодействия и взаимовлияния.
Именно конституционный государственный строй должен был в полной мере обеспечить всестороннее развитие человеческой личности. Трубецкой пояснял, что внутренняя свобода позволяет человеку усвоить «вечное содержание», но для воплощения «Безусловной» правды в окружающей среде необходима свобода внешняя. Таким образом, истинное назначение правового строя заключается в предоставлении духовному началу реальной возможности «свободно осуществляться во внешней действительности» [37, с. 369]. Из вышеизложенного следует, что основанием правового порядка для Е.Н. Трубецкого, продолжившего интеллектуальную традицию Б.Н. Чичерина, служили метафизические начала.
Трубецкой разделял конституционно-демократический идеал, справедливо полагая, что устойчивость конституционализма обеспечивается наличием прочной социальной опоры, выражающейся в искренней поддержке со стороны всех слоев населения. Для приобретения народных симпатий требовалось, как считал публицист, практическое воплощение комплексной программы демократических преобразований, затрагивающих все стороны общественной жизни. Следовательно, в российских условиях на длительное время мог утвердиться только конституционализм, проникнутый «духом» демократизма. Однако необходимо было «уложить демократическое содержание в конституционные формы», поскольку «демократизм антиправовой, – писал Е.Н. Трубецкой, – неизбежно вырождается в анархию» [24, с. 5], приводящую к установлению массового деспотизма – народовластия, основанного на праве силы большинства. На этот счет публицист замечал, что свободу отдельной личности может обеспечить только «очень сильная государственность» [13, с. 11]. Стало быть, конституционный демократизм должен в полной мере считаться с консервативным требованием сохранения правопорядка.
Редактор «Московского еженедельника» выступал против слепого копирования западных моделей развития без осуществления их должной адаптации к историческим и культурным особенностям национальной почвы. По мысли Трубецкого, российскому конституционному демократизму следовало «отлиться в формы, совместимые с патриотизмом, с традиционным русским монархизмом, с порядком и правом» [23, с. 6].
В публицистических статьях Е.Н. Трубецкой развил мысль о единстве конечной цели «конституционного демократизма» и «конституционного консерватизма» [23, с. 5], обосновав этим необходимость «вызревания» в стране самостоятельной политической силы, органически примиряющей в своей теории и практике либерализм с консерватизмом.
Перейдем далее к раскрытию экономической составляющей концепции «мирного обновления». В сфере экономики Е.Н. Трубецкой исходил из первостепенной необходимости повышения материального благосостояния основной трудящейся массы населения. Главным условием достижения в стране «мира классового» публицист определил справедливое решение аграрного вопроса.
Издатель «Московского еженедельника» признал неразумным торможение «искусственными преградами» стихийного и «исторически необходимого» процесса перехода земли в крестьянскую собственность и создания «могущественного класса мелкой сельской буржуазии» [34, с. 419]. Трубецкой убеждал читателей журнала, что расширение крестьянского землевладения могло послужить одним из необходимых условий достижения социального мира и спокойствия. Помещиков публицист настойчиво предупреждал, что мера эта прямо неизбежная: «сохранение латифундий стало немыслимым; если земли не будут так или иначе отчуждены, раздроблены и переданы крестьянам, они рано или поздно будут захвачены» [34, с. 419]. Журнал транслировал обществу очевидную мысль о том, что обеспеченным классам в сложившейся в стране революционной обстановке лучше понести крупные материальные потери, нежели в одночасье лишиться всего достояния [23, с. 5]. Как философ, мы полагаем, Трубецкой понимал, что нельзя остановить объективно развивающийся процесс, но можно попытаться направить его в приемлемое русло. Исходя из этого, он, с одной стороны, согласился с правильностью требования о расширении крестьянского землевладения за счет принудительного отчуждения частновладельческих земель, с другой – призвал установить четкие пределы отчуждения.
Е.Н. Трубецкой был последовательным противником аграрного социализма. Публицист доносил до подписчиков своего издания, что принцип верховенства народа на конкретной территории не обуславливает необходимости осуществления широкой национализации земельных ресурсов. Так как народное верховенство ограничено требованием достижения всеобщего блага, то и употребление земли, превыше всего, должно соответствовать принципу общественной пользы. Следовательно, в определенные исторические периоды, полагал Трубецкой, всеобщей пользе может служить не только общественная, но и частная собственность [18, с. 5].
Принципом общественной полезности Е.Н. Трубецкой предложил руководствоваться в вопросе отчуждения частновладельческих земель: обновленное законодательство должно было поспособствовать переходу земель в собственность тех, кто был в состоянии извлечь из нее большую экономическую пользу для общества. Так, принудительному отчуж- дению, согласно данному принципу, должны были подлежать следующие категории помещичьих земель: нерентабельные земли, на которых землевладельцы не вели собственного хозяйства; земли, сдаваемые крестьянам в аренду, служащие тем самым «орудием эксплуатации»; земли, обрабатываемые крестьянским инвентарем за деньги. Сокращению в условиях крайней необходимости должны были подлежать и частновладельческие земли, обрабатываемые инвентарем помещика, при наличии возможности их более интенсивной обработки [18, с. 11]. В то же время Е.Н. Трубецкой писал о необходимости сохранения помещичьего землевладения в тех пределах, в которых оно могло служить увеличению государственных объемов сельскохозяйственного производства. Государству надлежало оградить от дробления показательные, высококультурные помещичьи хозяйства, развитие которых стало результатом умственного труда и капиталовложений собственника.
На протяжении всего периода издания «Московского еженедельника» Е.Н. Трубецкой рьяно отстаивал начала крестьянской собственности. Именно формирование в Российской империи самодостаточного класса земледельцев-собственников определялось публицистом в качестве обязательного условия подъема производительности отечественной экономики. Для достижения этой цели отчужденные государством частновладельческие земли Трубецкой предлагал передать в полную собственность общин или отдельных лиц. В этом аспекте аграрной программы мирно-обновленец решительно разошелся с теоретиками кадетской партии, выдвинувшими проект расширения крестьянских земельных наделов на арендных началах долгосрочного пользования без права переуступки. В ходе печатной полемики Трубецкой сформулировал некоторые преимущества титульного владения землей над временным пользованием. В частности, право собственности должно было оказать благотворное влияние на народную психологию – воспитать в земледельческом населении сознание личной независимости и чувство ответственности за собственную жизнь. Кроме того, результатом расширения крестьянского землевладения мог стать существенный приток капитала в деревню. Ведь полноправному владельцу, пояснял Трубецкой, стало бы легче получить под земельный залог ссуду на приобретение средств производства. При этом публицист честно признал, что развитие мелкой крестьянской собственности не остановит процесс пролетаризации сельской бедноты, но существенно облегчит исход из деревень.
Е.Н. Трубецкой многократно подчеркивал, что решение аграрного вопроса в стране не могло быть ограничено одними лишь мероприятиями по увеличению крестьянского землевладения. Для реального роста народного благосостояния и повышения производительности сельского хозяйства требовалось существенное улучшение качества крестьянского земледелия. С этой целью имперскому правительству, по замыслу Трубецкого, одновременно с политикой приватизации надлежало реализовать широкую программу интенсификации земледельческих хозяйств: направить денежные средства на закупку современных орудий производства и увеличение поголовья скота [34, с. 417].
Издатель «Московского еженедельника» Е.Н. Трубецкой не скрывал от читателей журнала глубокой антипатии к крестьянской общине, усматривая в ней главный тормоз экономического развития земледельческого сословия, но вместе с тем считал недозволительным «отдать ее на экспроприацию кулакам» [19, с. 5]. Эта позиция вполне объясняет двойственное отношение публициста к аграрным преобразованиям П.А. Столыпина. С одной стороны, он поддержал общую направленность правительственной реформы, согласившись с необходимостью создания правовых условий для естественного и постепенного разложения крестьянской общины. С другой – категорически не принял способы ликвидации общинного землевладения, изложенные в тексте Высочайшего указа от 9 ноября 1906 года. Трубецкой опасался деструктивных последствий вкрапления частных земельных участков во владения общины: расстройства коллективного хозяйства; усиления зависимости рядовых общинников от местного кулачества; возрастания социальной напряженности. Заметим, что Трубецкому так и не удалось сформулировать конкретные предложения по этому аспекту земельного вопроса.
Журнальные материалы содержат лишь абстрактное заключение редактора, что единственно легальным источником ликвидации общинного владения могла быть признана совокупная воля коллективного собственника – общины, но не частные волеизъявления отдельных ее членов.
Таким образом, «ядро» аграрной программы Е.Н. Трубецкого составили следующие принципиальные положения: упразднение общинного землевладения, образование мелкой крестьянской собственности и интенсификация хозяйства.
Сохранение единства и целостности Российской империи редактор «Московского еженедельника» ставил в прямую зависимость от качества решения национального вопроса, стремительно усиливавшего тенденции поляризации общества. В целях реального укрепления государственности и восстановления социальной стабильности Е.Н. Трубецкой призвал царское правительство отрешиться от националистического курса «племенного эгоизма», десятилетиями разлагавшего общество, и, прежде всего, позаботиться о «внутреннем объединении разноплеменного населения империи» [20, с. 5]. Непременным условием достижения консолидации публицист определил устранение главного источника межнациональной конфронтации – неравенства правового статуса народностей. « Мир племенной », согласно концепции Трубецкого, мог быть построен только на прочном фундаменте «сверхнародной, общечеловеческой правды» [32, с. 13], требовавшей от верховной власти признания во всей широте ценности человеческой жизни , и, следовательно, законодательного закрепления всеобщего равноправия . Правительству надлежало сделать инородцев и жителей национальных окраин полноправными подданными российской короны, а также заинтересовать их в общем деле сохранения и развития государства. Из анализа публицистических материалов Е.Н. Трубецкого становится очевидным, что мыслитель признавал созвучной духу и запросам времени только государственную национальную политику, направленную на формирование единой гражданской нации.
Неотъемлемым элементом разумной национальной политики Е.Н. Трубецкой считал юридическое признание права народностей на культурное самоопределение. Главным образом речь шла о предоставлении коренному населению национальных окраин Российской империи языковой свободы в сферах образования и судопроизводства, а также свободы совести и вероисповедания. В этой связи вспоминается замечание редактора «Московского еженедельника», что государственное единство в России в принципе возможно исключительно как «единство в разнообразии» [6, с. 4].
Трубецкой являлся убежденным сторонником унитаризма , а потому не признал право народностей на политическое самоопределение и выход из состава Российского государства. В решении национального вопроса публицист не шел далее предоставления российским регионам широких прав местного самоуправления при сохранении верховенства имперского законодательства . Публицист допускал восстановление частичной автономии Царства Польского лишь при юридическом закреплении гарантий «сохранения русского государственного единства», а также «ограждения прав и интересов русского меньшинства в Польше» [17, с. 11].
Новый курс национальной политики, по мнению Е.Н. Трубецкого, мог быть использован имперским правительством в качестве инструмента внешнеполитического влияния. Формирование положительного образа государства за рубежом, «мягкая сила» культурного и идейного воздействия могли открыть Российской империи окно возможностей для приобретения прочных симпатий славянского мира и шире – занятия прочного положения в Европе [22, с. 4].
Установление в России конституционного порядка Е.Н. Трубецкой ставил в прямую зависимость от качества развития народного образования. Будущее страны, как он считал, находится в руках учителя в широком значении слова и определяется не столько даже политической деятельностью, сколько культурно-просветительской и воспитательной работой. В журнальных публикациях Трубецкой призывал государственную власть в первую очередь позаботиться о повышении уровня грамотности населения, поскольку этим она «эмансипирует личность, воспитает сознательность в массах, подготовит почву для демократических учреждений» [36, с. 7].
Красной нитью в «Московском еженедельнике» проходит мысль Е.Н. Трубецкого о невозможности достижения существенных изменений государственного строя без духовного обновления общества. Ведь пока население находится в состоянии «паралича» и «разложения», самые лучшие учреждения остаются «бессильны» [35, стб. 2]. Трубецкой, подобно веховцам, признавал примат духовной жизни личности над жизнью материальной. Однако это умозаключение не подразумевало, в его понимании, отрицания активной общественной деятельности. Напротив, вследствие внутреннего преображения у человека формируются новые стимулы, побуждающие его к преобразованию окружающей действительности [10, стб. 5]. Трубецкой, будучи преданным сторонником идеи гражданского общества, как-то заметил, что даже «революционная романтика с ее химерами и утопиями» не так вредна, как общественная «апатия» [11, с. 5].
Концепция духовного возрождения общества Е.Н. Трубецкого была насквозь проникнута славянофильской идеей соборности . На плечи интеллигенции публицист возложил нравственную обязанность восстановления в стране христианской общественности. Культурной и воспитательной деятельностью творческому меньшинству следовало привить народу «вечные» [25, с. 15] ценности и этические принципы христианства. Трубецкой объяснял их значимость тем, что только универсальные начала христианской культуры могли объединить разрозненные «атомы» в единый общественный организм. В качестве новой основы общественного строения мыслитель предложил христианский идеал всеобщей человеческой солидарности [15, с. 9].
Результаты. Общественно-политические взгляды Е.Н. Трубецкого представляют вариацию консервативного либерализма – идеологии, занимающей промежуточное положение между классическим либерализмом и либеральным консерватизмом; синтезирующей начала индивидуальной свободы личности и сильной государственности, экономического либерализма и социальной ответственности; направленной на поступательное достижение социальных инноваций при учете национальных особенностей и разумном сохранении традиций.
Свобода личности – краеугольный камень идеологии Е.Н. Трубецкого. Категория эта представляла для публициста высшую ценность, что отнюдь не предполагало признание ее абсолютного, безграничного характера. Напротив, подлинное осуществление индивидуальной свободы в общественной жизни, по Трубецкому, возможно лишь при условии существования определенных ограничений, как внешних со стороны государства, так и внутренних, связанных с христианской нравственностью и духовным саморазвитием. Трубецкой, в отличие от сторонников светского либерализма, выводил свободу и права человека из религиозных оснований. Личность для него – не автономная единица, а неотъемлемая часть объединенного духовными началами социума. Трубецкой-политик разделял консервативные ценности стабильности и порядка, а потому поддерживал разумное сохранение политических традиций нации, обусловливающих устойчивость властных институтов. Внедрение в стране либеральной демократии и парламентарного строя в его концепции органически сочетается с искренней преданностью монархической идее. Публицист выступал за сильную, хотя и ограниченную правом государственную власть, способную поддерживать в стране правопорядок, а следовательно, обеспечивать права и свободы личности. В экономической сфере Трубецкой отстаивал начала частной собственности и предпринимательской свободы, однако признавал необходимость государственного регулирования для защиты наиболее уязвимых слоев населения. Экономика, в его представлении, должна служить интересам всего общества, а не отдельных собственников. Кроме того, достижение социальной стабильности публицист ставил в прямую зависимость от сохранения традиционных культурных и моральных ценностей. Ведь культура – не поле для экспериментов и радикальных изменений, а средство формирования национальной идентичности.