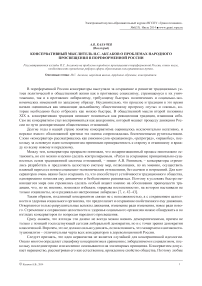Консервативный мыслитель И.С. Аксаков о проблемах народного просвещения в пореформенной России
Автор: Калачев Антон Витальевич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 6 (33), 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются взгляды И.С. Аксакова на проблемы народного просвещения в пореформенной России, в том числе, необходимость проведение реформ сферы образования консервативным путем
И.с. аксаков, народная школа, трудовое обучение, консерватизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14822139
IDR: 14822139
Текст научной статьи Консервативный мыслитель И.С. Аксаков о проблемах народного просвещения в пореформенной России
В пореформенной России консерваторы выступали за сохранение и развитие традиционных устоев политической и общественной жизни как в противовес социализму, стремящемуся к их уничтожению, так и в противовес либерализму, требующему быстрых политических и социально-экономических изменений по западному образцу. Неудивительно, что прошлое и традиции в это время начали оцениваться как мешающие дальнейшему общественному прогрессу «путы» и «оковы», которые необходимо было отбросить как можно быстрее. В общественной мысли второй половины XIX в. консервативная традиция начинает пониматься как реакционная традиция, изжившая себя. Сам же консерватизм стал восприниматься как анахронизм, который мешает процессу движения России по пути демократизации общественных отношений.
Долгие годы в нашей стране понятие консерватизма оценивалось исключительно негативно, и нередко вместо обоснованной критики эта оценка сопровождалась беспочвенными ругательствами. Слово «консерватор» рассматривалось как синоним слов «реакционер», «ретроград», «мракобес», поскольку за основную идею консерватизма принимали приверженность к старому и отжившему и вражду ко всему новому и передовому.
Между тем, консерваторы прекрасно понимали, что модернизационный процесс невозможно остановить, но его можно и нужно сделать контролируемым. «Ратуя за сохранение принципиально-сущностных основ традиционной системы отношений, – пишет А.В. Репников, – консерваторы стремились разработать и предложить целостную систему мер, позволявших, по их мнению, осуществить плавный переход к новым социально-экономическим отношениям, без скачков и потрясений. Для консерваторов очень важно было сохранить то, что способствует устойчивости традиционного общества, одновременно позволяя ему динамично и безболезненно развиваться. Поэтому в условиях быстро меняющегося мира они стремились сделать особый акцент именно на обосновании преимуществ традиции, что, по их мнению, позволяло избежать «прерыва постепенности», на котором настаивали не только социалисты, но и радикально настроенные либералы» [7, с. 42–43].
Таким образом, подлинный консерватизм связан не с неподвижностью, а с сохранением целостности и здоровья социального организма, что предполагает и сохранение свойственного ему движения. Отвергаются только разрушительные аспекты движения, изменение ради изменения, новое ради нового. Стремление к сохранению целостности и здоровья социального организма можно обнаружить и во взглядах консерваторов по вопросам народного просвещения.
Сразу скажем, что взгляды эти далеко не всегда можно назвать демократическими, причем не только с позиций господствующей сегодня либеральной демократии, но и с точки зрения демократии классической. Впрочем, это не должно сильно удивлять, если вспомнить, что монархизм и антиконституционализм – отличительная черта всех консерваторов в дореволюционной России.
Следует признать, что идея неравенства не является случайной для консервативной идеологии. Она во многом определяет специфику консерватизма в сравнении с либерализмом и социализмом, поскольку последние прямо или косвенно основываются на эгалитарных принципах. Консерватизм допускает неравенство, рассматривая его как естественное, врожденное свойство общества. Поэтому любые революционные изменения, нацеленные на достижение идеального равенства, расцениваются консерваторами как безнадежно утопичные.
Вместе с тем, хотя в русском консерватизме признавалась неизбежность естественного неравенства и иерархии, но, с другой стороны, народ не воспринимался как принципиально чуждый дворянской элите, более того, именно низшие сословия расценивались как носители национальных нравственнорелигиозных ценностей. Можно сказать, что отечественные консерваторы, будучи принципиальными противниками демократии в политическом смысле, были не чужды демократизму в его социальнокультурном преломлении.
Как видим, ситуация противоречивая и нередко ставящая консерваторов в сложное положение. Так, с одной стороны, многие из них поддерживали демократизацию народного образования, расширение его доступности, создание независимой от официальных властей земской школы, но, с другой стороны, консерваторы представляли себе эту демократизацию совсем иначе, нежели земские либералы.
Для того, чтобы составить более полное и конкретное представление об отношении консерваторов к проблемам воспитания и образования народа, отметим, что отечественный консерватизм не был однородным явлением, в его русле всегда существовали различные течения. В пореформенной России можно выделить два основных течения: православно-русское (славянофильское) и государственно-охранительное.
Большинство славянофилов придерживалось консервативных взглядов, но это, как правило, не был узкополитический консерватизм, и такого рода взгляды необходимо рассматривать в контексте общекультурной роли славянофилов как последовательных самобытников и традиционалистов, отстаивающих необходимость самостоятельного развития русской культурной и общественной жизни, ее независимость от влияния иностранных образцов.
Своеобразие роли и места славянофильского учения в социальной и культурной ситуации пореформенной России 1860–1880 гг. нашло свое отражение, в первую очередь, в общественной и теоретической деятельности И.С. Аксакова. Славянофилы надеялись, что крестьянская реформа приведет к сближению сословий в России, а институт земства будет способствовать возвращению той гармонии общественных отношений, которая, по их мнению, была характерна для допетровской Руси. И.С. Аксаков писал, что дальнейшее существование дворянского сословия на прежних основаниях после великого дела 19 февраля 1861 г. невозможно [1, т.3, с. 206]. Он выражал надежду, что в земстве возникнет «взаимный союз» крестьян-общинников и дворян-земледельцев.
В статье «О соотношении нашего общественного воспитания с табелью о рангах» (1864 г.) он писал, что консервативная реформа просвещения должна вести к тому, чтобы образованные сословия русского общества «возвратились к правде жизни, к свободе своих естественных органических отправлений» [1, т.4, с. 559].
Чуть ниже Аксаков отмечал, что ради этого возвращения можно согласиться на понижение неестественно поднятого уровня образования. Мысль довольно неожиданная, но логика его рассуждений, видимо, была такова: если образованные сословия будут поменьше изучать французский язык, то, гляди, начнут побольше разговаривать с простолюдинами по-русски, что будет способствовать сближению различных сословий. Однако, следуя этой логике, надо бы обсудить и шаги навстречу, т.е. поставить вопрос о качественном улучшении состояния народного образования.
И.С. Аксаков этот вопрос не ставил, а предпринимаемые в этом направлении усилия земств нередко подвергал критике. Значит ли это, что Аксаков реакционер, «мракобес» и т. п.? Нет, конечно. Он тоже желает блага народу, но понимает его не так, как либералы и радикалы, у него своя, консервативная правда. Кстати, именно проблема непосредственного народного просвещения стала точкой окончательного расхождения консервативных и либеральных просветителей.
Вопрос о массовом обучении крестьян грамоте, активно обсуждавшийся в российской печати в 50-е гг. XIX в., в 60-е гг. встал на повестку дня. Пожалуй, ни в одном другом вопросе представители русского образованного общества не выступали таким единым фронтом, как по вопросу о скорейшей организации народного просвещения. Широкое распространение школ одинаково горячо приветствовали и умеренно-патриотичное столичное дворянство, основавшее целый ряд благотворительных обществ, и провинциальные земские либеральные реформаторы, и радикально-демократически настроенные круги разночинной интеллигенции. На первых порах к ним присоединились и консерваторы. Например, активно участвовал в организации земских школ такой известный консервативный деятель как Ю.Ф. Самарин.
Однако постепенно отношение консерваторов к образовательной деятельности земств менялось. Спешку в этом сложном деле российские консерваторы считали недопустимой. Недавно освободившееся от крепостного состояния, в массе своей безграмотное крестьянство оставалось для них единственным носителем русских традиций. Славянофилы были далеки от идеализации крестьянского сознания, но они всегда подчеркивали, что это сознание представляет собой не чистый лист бумаги для просветительских экспериментов, а несет основы древней самобытной культуры. Другое дело, что эти основы не могли быть осознаны и развиты крестьянством самостоятельно, для этого необходимо было как светское, так и церковное обращение высших слоев общества к русским традициям. Ну а до тех пор, пока это не произошло, торопиться с введением всеобщего образования не следует.
Однако многие земские деятели, публично обличающие насилие государства над личностью, не вытерпев, принялись, по мнению консерваторов, поспешно насаждать сельские школы, причем административно-принудительными методами. По многочисленным свидетельствам русской пореформенной прессы, в ход против не желающих просвещаться и цивилизоваться крестьян шли и телесные наказания, и ограничение гражданских прав, и препятствия к вступлению в брак, и множество чрезвычайных земских и государственных повинностей.
«Из всех образцов европейского благоустройства, – писал в 1868 г. И.С. Аксаков, – принудительное обучение является нашим либералам одним из самых привлекательных, и особенно потому, что здесь принуждение и насилие осенены авторитетом самого просвещенного Запада. Начните опровергать пригодность такой системы образования для России, попробуйте отстаивать свободу естественного, органического народного развития и доказывать неправду и вред насилия в таком деле как просвещение, – вам сунут в глаза пример Пруссии и других стран, вам торжествующим голосом ответят: Что же вы хотите быть либеральнее Европы?» [1, т.4, с. 573].
Русские консерваторы обвинили земскую школу в том, что она готовит космополитов и неверующих. Характеризуя земскую школу П.Ф. Каптерев, например, писал, что она строится на широких общечеловеческих началах, но это плохо согласуется с желанием консерваторов сохранить национальную самобытность, с мечтой А.С. Хомякова о том, что «просвещение родное появится в наряде русской жизни». Земская школа, продолжал Каптерев, «хочет образовать из детей разумных граждан», казалось бы, как с этим можно спорить? Против «разумных граждан» консерваторы ничего против не имели, но придерживались того мнения, что целью земской школы является преимущественно умственное развитие, получение знаний в ущерб религиозно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.
«Образование в народной школе, – считал И.С. Аксаков, – не может ограничиваться сообщением одних букв и элементарных сведений, а должно быть в то же время и воспитанием. Иначе учение будет, – падение, иначе, расшатывая цельность народного быта, растворяя дверь в область цивилизации со всеми ее приманками, школа обратится лишь в коварную западню для народа» [1, т.4. с. 594].
Надо отдать должное тем либералам, среди которых эти упреки нашли понимание. Тот же П.Ф. Каптерев признавал, что в земской школе приобретение знаний и развитие ума сильно выдвигаются на передний план, придавая школе несколько односторонний вид – школа умственных упражнений, умственной гимнастики [4, с. 464]. Инициатор создания земских школ в России Н.А. Корф писал: «Школа, которая не воспитывает, которая не внушает ребенку религиозного чувства и вместе с тем правил нравственности, а только обучает – не школа: это вертеп будущих разбойников» [5, с. 12]. Что же удивляться появлению в консервативной прессе утверждений о том, что «развращение народа начинается, прежде всего, в земской школе», что «земская школа подрывает авторитет родителей и власти», что «в числе горлопанов, бесчинствующих на сельских сходах, немало воспитанников этих школ» [3, с. 17].
Все пореформенные годы И.С. Аксаков не уставал повторять, что «школа не должна отчуждать учащихся от родной среды, от труда, свойственного их быту (кроме исключительных талантов) и, вообще, плодить интеллигентный пролетариат» [1, т.4, с. 593]. Серьезную проблему видел здесь и Ф.М. Достоевский. Он писал, что поверхностное и несогласное с традиционными народными началами просвещение неминуемо приводит к тому, что «появляются малообразованные, но уже успевшие окультурится люди, которые всегда начинают именно с того, что презирают прежнюю среду свою, свой народ и даже веру его». Причем они «гораздо сильнее презирают народ, чем “большие господа”, гораздо уже правильнее их окультуренные» [2, т.9, с. 289]. В своем последнем романе «Братья Карамазовы» писатель дал исчерпывающую характеристику такого рода людей, создав яркие художественные образы Смердякова и Ракитина.
Размышляя над проблемами массового образования в России, интересное замечание делает К.Н. Леонтьев: «Развитие грамотности в народе – вовсе неподходящее выражение. Распространение, разлитие грамотности – дело другое. Распространение грамотности, распространение пьянства, распространение холеры, трезвости, бережливости, железнодорожных путей и т. д. Все эти явления представляют нам разлитие чего-то однородного, общего, простого. Идея же развития соответствует некоему сложному процессу, и, заметим, нередко вовсе противоположному с процессом распространения, разлития» [6, с.106–107].
В «Дневнике писателя» с Леонтьевым перекликается Ф.М. Достоевский, который, анализируя состояние образования среди небогатых слоев санкт-петербургского общества, сожалеет, «что детям теперь так все облегчают – не только всякое изучение, всякое приобретение знаний, но и игру и игрушки <…> Вся педагогика ушла теперь в заботу об облегчении. Иногда облегчение вовсе не есть развитие, а даже напротив, есть отупение» [2, т.9, с. 171]. Чтобы не быть заподозренным в приверженности к трудно усваиваемой казенной программе, писатель твердо высказывается в пользу сердечного, опытного познания: «Две-три мысли, два-три впечатления, поглубже выжитые в детстве, собственным усилием, (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из которой сплошь и рядом выходит ни то, ни се, ни доброе, ни злое» [Там же].
Таким образом, немало разных недостатков обнаружили консерваторы в деятельности народной школы. Вполне достаточно для того, чтобы у кого-то возник вопрос, который сформулировал И.С. Аксаков и на который сам же дал ответ: «Так не лучше ли уж вовсе не заводить никаких школ, заметят нам, а оставить народ коснеть в благодатном невежестве, в консервативной чистоте, в первобытности нравов? Лучше во всяком случае, чем учреждать скверную школу и вести народ к цивилизованному разврату или плодить новую породу цивилизованных диких. Но это “лучше” будет только из двух зол меньшее, но все же зло. Все, что не движется, не растет, не идет вперед, – каменеет, мертвеет, квасится, гниет. Это во-первых; во-вторых – народ и без школы подвергается беспрестанному воздействию цивилизации, но – самых вредных ее сторон <…> К тому же знание есть благо, на которое каждый имеет право, к которому все призваны, к которому стремится и наш народ, сложивший пословицу глубо- кого смысла: “Ученье – свет, неученье – тьма”. Нужно только, чтобы оно действительно было светом» [1, т.4, с. 595].
Что же, по мнению И.С. Аксакова, нужно сделать для того, чтобы учение «действительно было светом»? Какую программу народного просвещения они могли предложить? Еще в 1867 г. он предполагал, что «к дальнейшему образованию выходящего из дремоты народа понадобится особый разряд общеобразовательных училищ, независимый от училищ, ныне существующих, по преимуществу с характером общественным и даже духовным» [1, т.4, с. 568]. Позже деятель выскажется более определенно: «Все наши усилия должны направляться к тому, чтобы в каждом приходе была своя школа, и если приходов в России 40000, то и школ должно быть не менее. Чего же лучше, как приурочить школу к приходскому храму!» [Там же с. 588]. Таким образом, консервативную систему образования славянофилы предполагали строить в тесном союзе с православной церковью, единственной серьезной силой в стране, препятствовавшей размыванию традиций.
Следует отметить, что недостатки церковной образовательной деятельности консерваторы знали, а порой и сурово обличали. Знали они о бедности и малограмотности сельского духовенства, о его сословной замкнутости, об административной зависимости епископата от светских властей и т.д. Но консерваторы знали и о другом – стихийном народном доверии к церкви, традиционном желании большинства русского крестьянства искать просвещения в «церковной ограде». «Дело здесь не столько в характере образования, – пояснял И.С. Аксаков, – сколько в самом устройстве училищ и в бытовых привычках народа. Воспитание под руководством духовным привлекательнее для него, чем то же воспитание, руководимое, как ему кажется, простым чиновником» [Там же, с. 567].
Список литературы Консервативный мыслитель И.С. Аксаков о проблемах народного просвещения в пореформенной России
- Аксаков И.С. Сочинения. В 4-х т. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1891-1903.
- Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 9-ти т. М.: АСТ, 2003-2004.
- Звягинцев Е.А. Полвека земской деятельности по народному образованию. М.: Задруга, 1915.
- Каптерев П.Ф. История русской педагогии/предисл. Н.В. Бордовской; послесл. В. П. Борисенкова. СПб.: Алетейя, 2004.
- Корф Н.А. Наши педагогические вопросы. М.: Сотрудник школы, 1886.
- Леонтьев К.Н. Записки отшельника. М.: Русская книга, 1992.
- Репников А.В. Консервативная концепция российской государственности. М.: МПУ «Сигналь», 1999.