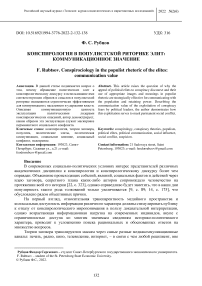Конспирология в популистской риторике элит: коммуникационное значение
Автор: Рубцов Феодор Сергеевич
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Рубрика: Школа молодых исследователей
Статья в выпуске: 2, 2022 года.
Бесплатный доступ
В данной статье поднимается вопрос о том, почему обращение политических элит к конспирологическому дискурсу и использование ими соответствующих образов и смыслов в популистской риторике оказываются стратегически эффективными для коммуникации с населением и удержания власти. Описывая коммуникационную ценность эксплуатации политическими лидерами конспирологических опасений, автор демонстрирует, каким образом эта эксплуатация служит маскировке перманентного социального конфликта.
Конспирология, теории заговора, популизм, политические элиты, политическая коммуникация, социальное влияние, социальный конфликт, подозрение
Короткий адрес: https://sciup.org/142234438
IDR: 142234438 | УДК: 316
Текст научной статьи Конспирология в популистской риторике элит: коммуникационное значение
В современных социально-политических условиях интерес представителей различных академических дисциплин к конспирологии и конспирологическому дискурсу более чем оправдан. Объяснение происходящих событий, явлений, социальных фактов и действий через идею заговора, секретного плана каких-либо акторов сопровождало человечество на протяжении всей его истории [22, с. 323], однако справедливо будет заметить, что в наши дни популярность такого рода толкований только увеличивается [9, с. 89; 14, с. 175], что обусловлено рядом объективных причин.
На первый взгляд, относительная транспарентность медийного пространства и колоссальная доступность информации различного характера должны стимулировать публику к отказу от конспирологического миропонимания в пользу доказательной интерпретации, однако возрастающая информационная нагрузка на современных индивидов, вкупе с ограниченностью доступа ко многим значимым сведениям историко-политического характера, приводит к усложнению поиска рациональных и обоснованных ответов на множество вопросов.
Теории заговора транслируются массам через самые разные медиакоммуникационные каналы: печать, радио, кино, телевидение, интернет, – в связи с чем любой реципиент, вне
1 Рубцов Феодор Сергеевич – студент Санкт-Петербургского государственного экономического университета. F. Rubtsov – student of the St. Petersburg State Economic University.
зависимости от того, предпочитает он YouTube федеральным телеканалам или наоборот, рискует стать жертвой конспирологического ментицида.
Кризисные события в общественной жизни только катализируют распространение теорий заговора и увеличение их популярности [12, с. 96; 22, с. 323]. Масштабные потрясения, которые сопровождаются трансформацией привычного жизненного уклада, депривацией, социальным недоверием, трансляцией массмедиа алармистской и противоречивой информации, воспринимаемой со сниженной критичностью, невозможностью контролировать угрозу, способны делать привлекательными существующие конспирологические идеи, а таже приводить к появлению новых [1, с. 74; 7, с. 88].
В конечном счете вера людей в теории заговора имеет эффект самоисполняющегося пророчества: в соответствии с теоремой Томаса, вне зависимости от того, в какой мере реален предмет этой веры, ее социальные последствия оказываются действительными.
В контексте коммуникации политических элит и общества можно говорить, с одной стороны, о распространяющихся в социальном дискурсе подозрениях правящих кругов в заговоре и, с другой стороны, о теориях, транслируемых властью и охотно поддерживаемых населением. В настоящем исследовании мы сфокусируемся на втором аспекте, а именно на коммуникационной ценности использования политиками в публичной риторике конспирологических теорий, образов, смыслов. Следует отметить, что такое обращение к конспирологическим опасениям носит исключительно популистский характер, поскольку ориентировано на широкие встревоженные массы, ищущие простых объяснений и не склонные к глубокому теоретизированию, и предлагает иллюзию выполнения элитами своих обязательств перед народом в виде борьбы с общими, воображаемыми или отчасти реальными, «врагами» [6, с. 41].
Теоретико-методологические основания
Концептуальной основой данной работы является конфликтная теория Ральфа Дарендорфа, предполагающая понимание социального конфликта как имманентного феномена общественной жизни, конститутивной детерминантой которого является неравенство, произрастающее из отношений господства и подчинения [18; 19] . В такой перспективе субъекты, располагающие неодинаковым объемом властных полномочий, обладают отличными ролевыми наборами и интересами, разделяют дифферентную идентичность, преследуют разнонаправленные цели. Рассматривая коммуникацию политических элит и населения, автор в первую очередь руководствуется данной посылкой. Представленные в этой статье рассуждения демонстрируют, как и почему апеллирование властвующих лиц к конспирологическим теориям способствует маскировке противоречий и созданию иллюзии единства целей, ценностей и интересов конфликтующих агрегатов социальных позиций.
Следующий методологический аспект, которому полагаем необходимым уделить некоторое внимание, – это концептуализация собственно конспирологических опасений. Последние в настоящей статье понимаются с опорой на категории социологии подозрительности и могут быть интерпретированы как алармистские ожидания, вызванные предположениями о том, что те или иные субъекты (при этом неважно, насколько точно они представлены в индивидуальном или общественном сознании и определены в дискурсе) состоят в заговоре, руководствуются диссимулированными побуждениями и скрывают подлинные мотивы своих действий, или о том, что за объектами окружающего мира, за реальными событиями, явлениями, процессами кроется чья-либо тайная воля, секретный замысел. В первом случае мы имеем дело с параноидной формой подозрения, подразумевающей попытку выявления «двойного дна» в действиях социальных субъектов, во втором – с шизоидной, обнаруживающей «двойное дно» в окружающей действительности [3, с. 164–168]. Очевидно, что тема нашего исследования затрагивает исключительно интерсубъективные конспирологические опасения – сформированные власть имущими либо репрезентированные в популистской риторике.
Наконец, обозначим парадигмальные рамки осмысления эксплуатации конспирологических опасений как социального действия. Множество работ в области общественных наук содержат рассмотрение распространения политиками теорий заговора как рационального, стратегического действия, имеющего инструментальную ценность, направленного на манипулирование массовым сознанием, на формирование у аудитории заведомо ложных представлений о происходящих событиях и явлениях, и описание социальных последствий такого рода коммуникации [см., например: 10; 17; 23] . Мы откажемся от понимания эксплуатации элитами конспирологических опасений как чисто стратегического действия и абстрагируемся от мотивов политиков в принципе: сфокусируемся лишь на коммуникации per se и на консеквентной маскировке социального конфликта, не отделяя при этом зерна целерациональности от плевел бредовых идей. В противном случае мы бы столкнулись с риском ненарочно трансформировать собственную попытку анализа конспирологии в саму конспирологию, что является довольно распространенным методологическим кейсом: нарративизация реальности в процессе ее дескрипции порождает квазинаучные объяснительные модели и репродуцирует конспирологический дискурс, а профессиональная роль ученого замещается ролью условного детектива [15, с. 13–15]. Это приводит к тому, что за результат авторской работы выдается не исследовательский продукт в форме приращенного знания, а метаконспирологическая теория, конструирующаяся вокруг идеи о том, что акторы, которые обращаются к сюжетам о заговорах, сами состоят в заговоре и занимаются прежде всего отвлечением внимания общественности.
Конспирология как язык
Для коммуникации между властью и населением необходимо наличие средства оформления и выражения идей и смыслов, которые были бы понятны обеим сторонам, – языка. Барьеры в виде статусного неравенства и языковых различий существенно осложняют эту коммуникацию [8, с. 176]. Неравное распределение власти, дифферентность социальных ролей, целей, ценностей, интересов, идентичности управляющих и управляемых субъектов делают затруднительным понимание одних другими (причем тем затруднительнее, чем выше дистанция власти и чем жестче иерархическая вертикаль). Невозможность полноценного декодирования информации, транслируемой населению на языке истеблишмента, приводит к экспликации существующих противоречий и увеличивает риск эскалации социального конфликта, а потому коммуникация правящих кругов и общества, способствующая взаимному пониманию и вуалирующая неравенство, требует набора ключевых символов – субстанциональных составляющих политического мифа [4, с. 273].
Ключевые символы служат общим знаменателем речевых актов элит и рядовых граждан. Воздействие на массовое сознание единого синтаксического набора является одним из немногих факторов, консолидирующих людей вне зависимости от этнической, профессиональной, демографической, конфессиональной, идеологической и иной принадлежности и формирующих лояльность к власти [там же, с. 273–274]. Г. Лассуэлл писал, что ключевые слова американского политического мифа – это «права», «свобода», «демократия», «равенство» [там же]. С таким же успехом в разряд политических символов может быть включен концепт «Заговор» (о месте данного концепта в русской языковой картине мира см.: [5] ).
Язык конспирологии отличается простотой и не требует от реципиентов особых интеллектуальных усилий при декодировании сообщений. Он обрисовывает довольно тривиальную, биполярную, легкую для понимания картину мира и дает конкретные ответы на вопросы, перед которыми фактология оказывается не столь убедительной, содержательной и остросюжетной. Оперирование политиками в популистской риторике тезаурусом теорий заговора, обращение к конспирологическим опасениям прельщают имеющих условно низкое социальное положение и качество жизни людей идеей о том, что в их неудачах и нереализованности виноваты третьи лица – злобные антисоциальные заговорщики, борьба с которыми может проложить путь к лучшей жизни [15, с. 19], а также оправдывают невыполнение элитами своих обязательств перед обществом.
Использование истеблишментом конспирологической риторики сопровождается имплицитными метакоммуникационными сообщениями (то есть неявными сообщениями о предмете отношений между коммуницирующими [16, с. 177–178]), призванными обозначить единство власти и населения. Так, апеллирование к теориям заговора само по себе демонстрирует управляемым субъектам, что управляющие разговаривают с ними на одном языке и понимают их страхи, опасения. Более того, метакоммуникационные сигналы внушают населению, что элиты хорошо информированы (знают о наличии заговора и его подробностях), находятся по одну сторону баррикад с народом (принадлежат с ним к единому «сообществу судьбы») и готовы действовать на благо общества. Описанные коммуникационные и метакоммуникационные сообщения оказывают суггестивное влияние на реципиентов, в результате чего население, несмотря на объективное социальное неравенство, начинает отождествлять власть с собственной ингруппой.
Конспирология как религия
К. Поппер, один из «пионеров» изучения теорий заговора, видел первопричину широкого распространения конспирологических убеждений в секуляризации: перемещение богов на второй план сделало вакантными в социальных представлениях позиции всемогущих субъектов. Эти убеждения мотивируются верой людей в торжество истины и, как следствие, добра [20; 21] .
Идеи Поппера позволяют судить о том, что конспирология в определенном смысле является формой религии, причем религии дуалистической. Представители элит, репродуцирующие в популистской риторике теории заговора, предлагают населению весьма четкую и оформленную картину мироустройства, в которой существуют два начала: злое, деструктивно действующее, покушающееся на благополучие общества, и доброе, призванное отстаивать это благополучие и бороться со злом. Те, кто презентует публичному вниманию подобную картину, берут на себя роль своего рода мессий – спасителей нации / человечества, поборников «света» и противников «тьмы».
В случае если конспирология не принимает форму самостоятельного «вероучения», она имеет высокие шансы развиться в рамках догматики существующей религии. В частности, ультраконсервативным теориям заговора, базирующимся на аксиоматике христианской эсхатологии, свойственно интерпретировать современные социально-политические процессы и тренды, будь то секуляризация, ослабление традиционных ценностей, разрушение прежней иерархии, попытки установить социальную справедливость и пр., как апокалиптическую «тайну беззакония» и видеть за падением монархий «невидимую руку», стремящуюся к достижению мирового господства [13, с. 195].
Основываясь на культурно-религиозных ценностях и паттернах, присущих конкретному – пусть даже не слишком религиозному – социуму, конспирология апеллирует к знакомым и близким для его членов идеям, смыслам, установкам, символам, к аккумулированным в общественном сознании нарративным прототипам, в силу чего теории заговора с легкостью становятся коллективными верованиями. Так или иначе, конспирология, независимо от того, насколько тесны ее культурно-исторические и догматические связи с той или иной религией, обещая «адептам» царство добра и справедливости и внушая им идею мессианизма, служит социальной консолидации и интеграции, формированию общего направления мыслей, установок и ожиданий. Политический лидер, обращающийся к теориям заговора и эксплуатирующий конспирологические опасения, берет на себя роль и лидера духовного – до тех пор, пока у населения не возникнет сомнений в его искренности и «избранности», он будет восприниматься как «свой» и удерживать соответствующие позиции. Переживание гражданами общей идентичности с элитами является фактором, ингибирующим эскалацию социального конфликта и способствующим удержанию последнего на латентной стадии.
Конспирология как политико-идеологический конструкт
Описанные выше особенности подводят нас к следующей роли теорий заговора – не менее значимой, нежели роль языка и специфической религии. Мнение о том, что конспирология – это прибежище радикально настроенных политических группировок, является общераспространенным, однако в реальности концепция заговора не характеризуется абсолютной маргинальностью: конспирологические взгляды нередко оказываются прочно интегрированы в идеологию, не отличающуюся радикализмом и даже разделяемую большинством [14, с. 175–176].
Значение теорий заговора как идеологического конструкта автор охарактеризует с учетом параметров, обеспечивающих существование и функционирование идеологии в системе социально-политических отношений (список параметров см. в: [2, с. 90]).
-
1. Формирование представлений о мироустройстве. Разные идеологии предлагают отличные друг от друга «картины мира». Справедливо будет заметить, что базирующиеся на конспирологических теориях идеологии – это внушительных размеров неоднородное множество концептуальных систем, однако в основе всех таких идеологий лежит общий принцип – понимание окружающей действительности через представления о наличии заговора.
-
2. Поддержание связи с мировоззренческой системой, свойственной эпохе. Теории заговора, несмотря на то что многие из них отличаются очевидной преемственностью и имеют глубокие исторические корни, всегда адаптируются (с большим или меньшим успехом) к временны́ м изменениям коллективных воззрений. Безусловно, конспирологические представления могут быть свойственны как прогрессивным, так и реакционным идеологическим ориентациям, однако теории заговора, абсолютно не соответствующие современным мировоззренческим установкам тех или иных групп, переносятся в разряд легенд и мифов прошлого.
-
3. Теоретическое выражение коллективного самосознания. Конспирологической идеологии свойственна четкая категоризация социально-политических субъектов посредством образов «мы – они», «свой – чужой», при этом основа идентичности «своих» – это осознание собственной группы как аутсайдеров, жертв злого умысла «чужих» [14, с. 178– 179]. Очевидно, что элиты, в контексте коммуникации с населением обращающиеся к конспирологическому дискурсу, могут претендовать на идентификацию с первой категорией.
-
4. Определение механизмов теоретической защиты политических акторов. Обвинение политиками своих оппонентов в заговоре является инструментом легитимации действий, направленных против соперников [15, с. 11–12]. Прокламируемая принадлежность властвующих кругов к одному полюсу с населением, их электоральная поддержка способствуют созданию эффекта правомерности этих действий и направленности таковых на благо общества / определенной социальной категории.
-
5. Интерпретация глобальной социально-политической и экономической обстановки. Сформированные конспирологической идеологией общественные представления о мироустройстве используются как концептуальная рамка для осмысления и интерпретации
-
6. Прогнозирование дальнейшего развития и целеполагание. Подозрение каких-либо акторов в заговоре и наличие конвенциональных представлений об их скрытых мотивах приводят к выработке сценариев потенциальных действий «чужих». В соответствии со сложившимися опасениями относительно будущего, которое конспирология может изображать в довольно мрачных тонах, обозначаются цели и задачи, которые, по мнению пропонентов теорий заговора, позволят избежать возможных негативных последствий.
-
7. Ценностная ориентация и мотивирование политических действий. Конспирологические опасения синтезируются с неким набором имеющихся ценностей, которые в риторике заговора предстают еще более значимыми, но при этом уязвимыми, требующими консолидации социальных сил для своей защиты. Алармистски настроенные массы, попавшие под воздействие конспирологических идей, ощущают потребность в объединении сил с политическими элитами в целях отстаивания собственных интересов и сохранения ценностей.
социальной конъюнктуры, различных процессов и явлений как на глобальном, так и на локальном уровнях.
В заключение отметим, что конспирология способна стать базисом для дефицитарной идеологии, которая не обладает солидным символико-мифологическим и нарративным арсеналом, интерпретативным конструктом и аргументационной базой. В то же время идеи заговора могут быть органичным дополнением весьма концентрированной политической доктрины, акцентируя ее ключевые положения и концепты. Так или иначе, приобретение конспирологией значения идеологического конструкта (то есть фактора, способствующего социальной интеграции) маскирует конфликт между элитами и населением, которые – пусть даже в коллективном сознании – становятся ближайшими союзниками.
Заключение. Конспирология и маскировка социального конфликта
В современном обществе теории заговора являются одним из наиболее распространенных инструментов объяснения происходящих событий [14, с. 175]. Сочетая функции языка и религии, обращаясь к национальному сознанию, конспирология способствует возникновению гражданской солидарности, которая исторически продуцировалась тремя названными факторами [11, с. 54]. Политико-коммуникационная ценность теорий заговора заключается также в их возможности служить конструктом идеологии.
Как было отмечено выше, конспирологическому миропониманию присуща категоричная оценка происходящего через призму дихотомии «мы – они», где «они» – заговорщики, а «мы» – жертвы заговора, аутсайдеры. Эксплуатация политическими элитами, которые вследствие социального неравенства и наличия объективных противоречий могли бы восприниматься обществом как «чужие», конспирологических опасений смещает фокус внимания с конфликта между властью и населением на конфликт между консолидированным актором (власть плюс население) и общим внешним врагом. Таким образом, использование истеблишментом в популистской риторике идей заговора позволяет наладить коммуникацию с обществом и сформировать новую коллективную идентичность, в рамках которой правящие лица и народ предстают единым социально-политическим субъектом и благодаря которой эскалация конфликта отсрочивается – по крайней мере, пока общее конспирологическое верование и массовая убежденность в способности руководства противостоять внешней угрозе не обратятся в руины.
Список литературы Конспирология в популистской риторике элит: коммуникационное значение
- Ардашев Р. Г. Конспирологические теории в период пандемии: эффекты сознания // Социология. 2021. №5. С. 74-81.
- Барашков Г. М. Понятия политической и государственной идеологии в современной российской политической науке // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2007. №1. С. 88-92.
- Вахштайн В. С. От герменевтики подозрения к социологии подозрительности: между Полем Рикером и Никласом Луманом // Логос. 2021. Т. 31. №3. С. 149-174.
- Лассвелл Г. Язык власти // Политическая лингвистика. 2006. №20. С. 264-280.
- Меркулова Н. В. Концепт «Заговор» в русской языковой картине мира (материалы к антологии русских национальных концептов) // Проблемы истории, филологии, культуры. 2009. №2. С. 140-147.
- Мусихин Г. И. Популизм: структурная характеристика политики или «Ущербная идеология»? // Полития. 2009. №4. С. 40-53.
- Нестик Т. А., Дейнека О. С., Максименко А. А. Социально-психологические предпосылки веры в конспирологические теории происхождения COVID-19 и вовлеченность в сетевые коммуникации // Социальная психология и общество. 2020. Т. 11. №4. С. 87-104.
- Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Коммуникативные барьеры в сфере управления // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2017. №2. С. 175-180.
- Панченко А. А. Антропология и конспирология // Антропологический форум. 2015. №27. С. 89-94.
- Петрова Д. Г. Конспиративни теории, реторика и аргументация // Реториката в съвременното общество: Сборник с доклади от конференция по реторика 27-28 септември 2017 г. / Н. Стефанова, Д. Петрова (съст. и ред.). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 2019. С. 155-167.
- Хабермас Ю., Ратцингер Й. Диалектика секуляризации. О разуме и религии / Пер. с нем. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. 112 с.
- Хохлов А. А. Конспирологические теории как феномен медиавоздействия на общественное сознание // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2020. №1. С. 96-104.
- Шнирельман В. Александр Дугин: возведение моста между эсхатологией и конспирологией // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2016. №4. С. 194-221.
- Яблоков И. А. Теории заговора в современных политических идеологиях россии и США: насколько маргинален язык конспирологии? // Политическая наука. 2013. №4. С. 175-191.
- Яблоков И., Амирян Т., Колозариди П. Политика и поэтика в теориях заговора // Логос. 2017. Т. 27. №4. С. 11-22.
- Bateson G. Steps to an Ecology of Mind. N. Y.: Ballantine Books, 1972. 541 pp.
- Bergmann E. Conspiracy & Populism. The Politics of Misinformation. Cham: Palgrave Macmillan, 2018. 202 pp.
- Dahrendorf, R. Gesellschaft und Freiheit: zur soziologischen Analyse der Gegenwart. Mrnchen: R. Piper, 1965. 454 ss.
- Dahrendorf, R. Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford: Stanford University Press, 1959. 336 pp.
- Popper K. R. Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. London: Routledge & K. Paul, 1969. 431 pp.
- Popper K. R. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde II: Falsche Propheten. Hegel, Marx und die Folgen. Munchen: Francke Verlag, 1980. 483 ss.
- Prooijen J. W. van, Douglas K. Conspiracy theories as part of history: The role of societal crisis situations // Memory Studies. 2017. №10. P. 323-333.
- Sawyer P. Populist Conspiracy Theories and Candidate Preference in the U.S. // Acta Politologica. Vol. 12. №3. P. 1-26.