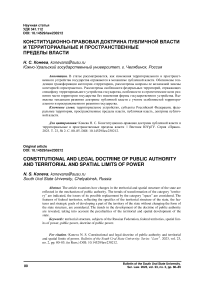Конституционно-правовая доктрина публичной власти и территориальные и пространственные пределы власти
Автор: Конева Наталья Сергеевна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Публично-правовые (государственно-правовые) науки
Статья в выпуске: 2 т.23, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается, как изменения территориального и пространственного устройства государства отражаются в механизме публичной власти. Обозначены тенденции трансформации категории «территория», рассмотрены вопросы ее возможной замены категорией «пространство». Рассмотрены особенности федеральных территорий, отражающих специфику территориального устройства государства, особенности и стратегические цели развития части территории государства без изменения формы государственного устройства. Выявлены тенденции развития доктрины публичной власти с учетом особенностей территориального и пространственного развития государства.
Территориальное устройство, субъекты российской федерации, федеральные территории, пространственные пределы власти, публичная власть, доктрина публичной власти
Короткий адрес: https://sciup.org/147240911
IDR: 147240911 | УДК: 341.112 | DOI: 10.14529/law230212
Текст научной статьи Конституционно-правовая доктрина публичной власти и территориальные и пространственные пределы власти
Для развития конституционного права в XXI веке характерна трансформация целого ряда фундаментальных понятий, таких как суверенитет, право, народное представительство, институт прав человека, основы территориальной организации государства. Практика государственного строительства предлагает новые концепции и категории взамен устаревших, оставаясь при этом, как правило, в рамках теории трех элементов государства, выраженной триадой «население – территория – государственная власть».
Внесенные в июле 2020 года изменения в Конституцию Российской Федерации повысили исследовательский интерес к вопросам природы публичной власти. Развитие доктрины публичной власти в сегодняшней России требует содержательного обсуждения ряда вопросов, в числе которых и вопросы территориальной организации и пространственных пределов публичной власти. Публичная власть в государстве всегда имеет «территориальную привязку», поскольку властные полномочия осуществляются на определенной территории, а власть ограничивается федеральной территорией, территорией субъекта РФ или муниципального образования. С. А. Авакьян отмечает: «Психология территориального масштаба власти была, есть и, видимо, останется на долгие времена» [1, с. 3–11].
Исследование пространственных пределов публичной власти позволяет раскрыть механизм реализации принципа территориального единства, с одной стороны, и обозначить особенности уровней публичной власти в федеративном государстве, с другой.
Обсуждение, как представляется, может пойти по двум направлениям. Первое – трансформация понимания категории «территория», исследование процессов возможной постепенной замены этой категории категорией «пространство», что отражает тенденции глобализации и цифровизации.
Второе направление – появление в концепции территориальной организации публичной власти России федеральных территорий как способа отразить специфику территориального устройства государства, учесть особенности и цели развития части территории государства без изменения формы государственного устройства. Этот подход, полагаем, вписывается в логику дихотомии между глобальным и территориальным пространством.
Отметим, что даже за рамками конституционной реформы 2020 года, внесшей вклад в изменение территориальной организации публичной власти, вопросы территории как традиционного признака государства и пространственных пределов осуществления публичной власти государства претерпевают трансформацию. Глобализация и цифровизация как тенденции развития конституционализма привели к изменению понимания суверенитета через пересмотр значения «территориальной привязки» суверенитета. Та трансформация, которой сейчас подвергается понимание категории «суверенитет» (а мы наблюдаем в праве вытеснение категории «территория» категорией «пространство»), находится в русле общего изменения базовых концептов права, таких как «субъект права», «суверенитет», «действие закона в пространстве» [8, с. 12].
Отсутствие четкой привязки государственных процессов, публичных услуг к пространству и территории, привело к возникновению цифрового либертарианизма [11, с. 236] – течения, в основе которого идея, предлагающая пересмотреть традиционное понимание государственного суверенитета, – «суверенная власть государства в Интернете существенно ограничена, что приводит к низкой регулятивной силе национального права» [11, с. 236]. Суверенитет киберпространства начинает, по сути, противопоставляться государственному суверенитету, а само киберпространство рассматриваться как самостоятельное и юридически значимое. Усилия государств по регулированию отношений в сфере цифрового права, направленные в первую очередь на защиту публичных и частных интересов, приводят к постепенному признанию легитимности виртуального, сетевого пространства, появлению цифровых прав и конструированию механизма их признания, охраны и защиты. Но в то же время они и ставят вопрос о том, а может ли и должно ли киберпространство быть свободно от государственного вмешательства и от национальной юрисдикции. Примечательно, что попытки государств создать правовую конструкцию киберсуверенитета (например, опыт Тайланда в период пандемии 2020 года) отличает то, что такая конструкция создается, по сути, по об- разцу государственного суверенитета, так как в нем присутствуют элементы территориальной государственности, а киберпространство рассматривается как некая физическая сущность, что делает такую концептуализацию ошибочной, упускающей существенные различия между двумя видами суверенитета.
Признаем, что даже если не придерживаться столь радикальных подходов, предлагающих наряду с государственным суверенитетом рассматривать конструкцию киберсуверенитета, мы наблюдаем появление новых юридических фикций, связанных с информацией, и киберпространство - одна из них [10, с. 14], это находит отражение в доктрине публичной власти и пространственных пределах ее действия.
Важно при этом отметить, что между понятиями «пространство власти» и «предел власти» есть различия, поскольку пространство не подразумевает предел власти. С. А. Авакьян пишет: «Всегда воспринимал территорию как пространство власти. Отнюдь не пространственный «предел» власти, поскольку и тогда, и сейчас ясно, что власть не замыкается внутри своей территории, ее сила и влияние простираются далеко за границы государства» [1, с. 4].
Второе направление рассуждений касается изменений в территориальной организации публичной власти, внесенных в рамках конституционной реформы 2020 года. В конституционно-правовой оборот вводится категория «федеральная территория» (ч. 1 ст. 67 Конституции РФ), организация публичной власти в их пределах устанавливается федеральным законом. Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 437-ФЗ «О федеральной территории «Сириус» определил федеральную территорию как имеющее общегосударственное стратегическое значение публичноправовое образование, в котором устанавливаются особенности организации публичной власти и осуществления экономической и иной деятельности.
Ряд специалистов введение конституционной модели федеральных территорий называют одной из самых интересных поправок в конституционный текст, подчеркивая, например, потенциал федеральных территорий при разрешении национально-территориальных конституционных конфликтов внутри государства без изменения формы его государственного устройства. Н. И. Грачев пишет: «От- сутствие таких территорий представляет проблему или даже опасность для федеративных государств в период кризисов и смут, когда попытка выхода из их состава или отпадение каких-либо регионов может привести к их полному упразднению, как это было с СССР, Социалистической федеративной республикой Югославия или Чехо-Словацкой социалистической республикой» [3, с. 9]. Тем самым наличие федеральных территорий, включение этой правовой категории в конституционный или законодательный текст рассматриваются как некая кризисная схема, как специальный правовой режим территории переходного периода. И. В. Ирхин полагает, что федеральные территории являются отражением видового разнообразия существующих в мире форм непосредственного или опосредованного управления со стороны центра внутригосударственными образованиями [6, с. 31].
Важным посылом в рамках обсуждений правовой природы федеральных территорий, особенностей организации публичной власти является предположение о том, что существование внутри государства (федеративного или унитарного) территорий с особым порядком функционирования структур публичной власти не влечет за собой нарушение принципа территориального единства и изменения формы государственного устройства [2, с. 31]. Роль территорий со специальным режимом, в том числе и в организации публичной власти, заключается в возможности с их помощью формировать национальную модель управления территорией и пространственным развитием государства
Через легитимацию модели федеральных территорий произошло уточнение пространственных пределов публичной власти. Эта конституционно-правовая конструкция может быть использована в будущем и для других видов территорий в составе Российской Федерации как особых объектов конституционно-правовых отношений, для которых может устанавливаться специальный режим осуществления публичной власти (ст. 67, ч. 3 ст. 131 Конституции РФ) [5, с. 47].
Согласимся с тем, что возможность установления оговоренного специального режима - это важный сущностный признак конструкции публичной власти, который должен быть встроен в систему взаимоотношений между разными уровнями и ветвями государственной власти при сохранении существующей формы государственного устройства и формы правления [5, с. 47].
-
С . В. Праскова отмечает: «Степень самостоятельности федеральных территорий может колебаться от приближающейся к ограниченному суверенитету государственно-территориального образования до полного отсутствия самоуправления, замененного федеральным управлением» [9, c. 1544]. И. В. Ирхин пишет: «Параметры самостоятельности вовсе не нуллифицируют фактор прямого управления со стороны центра, поскольку являются обособленной составляющей конституционно-правового режима» [6, с. 31].
Отметим, что мнения ученых о необходимости создания единой законодательной модели федеральных территорий разделились. Принятие федерального закона о федеральной территории «Сириус» стало поводом осмыслить вопросы необходимости выработки единой законодательной модели, использовать в дальнейшем эти законодательные конструкции при регулировании правового статуса и иных федеральных территорий. Эти рассуждения находятся в русле логики сохранения территориального единства и единого правового пространства. Вывод о необходимости универсализировать статус федеральных территорий делается исходя из понимания, что значительная дифференциация статусов имеющихся в государстве федеральных территорий будет приводить к сложностям в управлении этими территориями с точки зрения обеспечения приоритетов общегосударственного характера [2, с. 33].
-
В . В. Комарова подчеркивает: «При всей очевидности конституционно-правовых аспектов и в основном результативности используемого правового механизма целесообразно на законодательном уровне сформулировать общие для выделенных, например, по решаемой задаче, групп территорий с особым статусом – территориальных пределов осуществления публичной власти, критерии» [7, с. 23].
-
Т . В. Заметина поднимает справедливый вопрос о реализации конституционного принципа равноправия субъектов федерации между собой и во взаимоотношениях с федеральным центром, самостоятельности субъектов федерации в пределах обозначенных Конституцией РФ полномочий (ст. 73), а также учета мнения регионов при решении вопроса о создании «федеральных» территорий [4, с. 38].
С другой стороны, для конституционного права в целом характерно закрепление особых режимов организации публичной власти на отдельных территориях – к ним относятся внутренние воды, территориальное море, воздушное пространство, закрытые административно-территориальные образования, территория инновационного центра «Сколково», территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), территории инновационных научно-технологических центров и территории Арктической зоны, наукограды, федеральные территории. Они создаются для реализации специальных государственных задач и предполагают особый режим осуществления публично-властных полномочий (в сфере обороны, науки, инноваций). При этом особая модель публичной власти во многом предопределена стратегической значимостью таких территорий.
Для развития конституционной доктрины публичной власти в отношении территориальной и пространственной составляющих принципиальным представляется учет следующих аспектов:
-
– необходимость учитывать происходящие процессы трансформации территориальной привязки суверенитета и пространственного предела власти;
-
– признание, что существование стратегически значимых территорий со специальным правовым режимом подразумевает особенности организации публичной власти на этих территориях;
-
– необходимость при регулировании статуса федеральных территорий придерживаться закрепленного Конституцией РФ подхода, согласно которому территория остается в пределах субъекта и не образует в пространственной структуре государства отдельный элемент [2, с. 34];
-
– признание, что существование в границах федеративных государств особых территорий со специальным режимом отправления публичной власти не должно рассматриваться как отступление от принципа территориального единства и единства правового пространства;
-
– возможность законодателя устанавливать довольно обширный перечень стратегически значимых целей создания федеральных территорий может ограничивать возможности переноса опыта законодательного регулирования с одного вида федеральных территорий
на другие виды, но не должно быть препятствием для обеспечения единообразия при использовании данного правового механизма, обеспечения его прозрачности и обоснованности. Эти задачи могут быть решены путем принятия единого федерального закона, устанавливающего критерии исключений из общего правового механизма публичной власти для федеральных территорий в зависимости от их вида и целей создания;
– необходимость выработки механизма совершенствования территориального состава уже созданной федеральной территории для эффективного выполнения стратегических задач, которые законодатель заложил в законодательную конструкцию при создании федеральной территории.
Список литературы Конституционно-правовая доктрина публичной власти и территориальные и пространственные пределы власти
- Авакьян С. А. Властеотношения: закономерности существования, субъективизм регулирования и правоприменения // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 5. С. 3-11.
- Валентик О. Н. Федеральные территории как инструмент национальной безопасности // Развитие и безопасность. 2021. № 1 (9). С. 29-41.
- Грачев Н. И. Публичная власть как политико-правовая категория: понятие, основные признаки и формы // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2020. № 4 (55). С. 8-19.
- Заметина Т. В. Конституционно-правовое регулирование территориального устройства России: проблемы и перспективы модернизации // Уральский Форум конституционалистов: материалы седьмого Уральского Форума конституционалистов. Екатеринбург, 2022. Вып. 7. Ч. 1. С.33-39.
- Зенин С. С. Система публичной власти в Российской Федерации: новые подходы к правовому регулированию в условиях конституционной реформы // Lex russica. 2020. Т. 73. № 12. С. 42-53.
- Ирхин И. В. Федеральные территории и федеральные округа: смешение конституционно -правовых моделей // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 6 (67). С. 30-37.
- Комарова В. В. Территориальные пределы публичной власти и особые статусы территорий // Образование и право. 2020. № 6. С. 22-26.
- Правовое регулирование цифровых технологий в России и за рубежом. Роль и место пра-вово го регулирования и саморегулирования в развитии цифровых технологий: монография / под общ . ред. А. В. Минбалеева. Саратов: Амирит, 2019. 207 с.
- Праскова С. В. О федеральных территориальных единицах // Актуальные проблемы российс кого права. 2013. № 12. С. 1543-1551.
- Талапина Э. В. Право и цифровизация: новые вызовы и перспективы // Журнал российского права. 2018. № 2. С. 5-17.
- Туликов А. В. Зарубежная правовая мысль в условиях развития информационных технологий // Право. Журнал Высшей школы экономики. 201 6. № 3. С. 235-243.