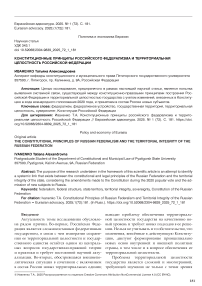Конституционные принципы российского федерализма и территориальная целостность Российской Федерации
Автор: Иваненко Т.А.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Политика и экономика Евразии
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
Целью исследования, предпринятого в рамках настоящей научной статьи, является попытка выявления системной связи, существующей между конституционно-правовыми принципами построения Российской Федерации и территориальной целостностью государства с учетом изменений, внесенных в Конституцию в ходе всенародного голосования 2020 года, и принятием в состав России новых субъектов.
Федерализм, федеративное устройство, государственная территория, территориальная целостность, суверенитет, конституция российской федерации
Короткий адрес: https://sciup.org/140310543
IDR: 140310543 | УДК: 343.1 | DOI: 10.52068/2304-9839_2025_72_1_181
Текст научной статьи Конституционные принципы российского федерализма и территориальная целостность Российской Федерации
Актуальность темы исследования обусловлена рядом причин. Во-первых, Российская Федерация является сложносоставным федеративным государством, в связи с чем императив сохранения ее территориальной целостности и государственного единства остаётся одним из центральных вопросов государственно-правовой теории и практики и требует постоянной научной актуализации. Во-вторых, обострившаяся внешнеполитическая ситуация в сочетании с включением в состав России новых территориальных единиц выводит проблему обеспечения территориальной целостности государства на качественно новый уровень и требует новых подходов в ее решении. Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что изменения, внесённые в действующую Конституцию, диктуют формирование принципиально новых основ внутренней и внешней политики страны, в том числе и в вопросе обеспечения ее территориальной целостности.
Проблема территориальной целостности государства является сложной и многогранной, требующей изучения не только с точки зрения
конституционного и международного права, но и с учётом политических и исторических аспектов.
Все вышесказанное свидетельствует о высокой степени научной актуальности темы настоящей статьи.
К вопросу о правовой природе российского федерализма
Специфика территориального федеративного устройства России состоит в том, что ее субъекты имеют разный правовой статус. Так, в соответствии с частью 1 статьи 5 Конституции Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, которые являются равноправными субъектами Российской Федерации. Конституционное установление о равноправии субъектов РФ повторно встречается и в части 4 данной статьи, которая гласит, что во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны. При этом часть 2 статьи 5 прямо указывает на то, что республики в составе Российской Федерации имеют особый правовой статус, поскольку являются государствами и имеют собственную конституцию и законодательство. Различный подход к определению своего территориального статуса существует и в конституциях самих республик [12]. Так, согласно статье 1 Конституции Республики Алтай, Республика Алтай – равноправный субъект Российской Федерации, являющийся ее составной и неотделимой частью. Республика Алтай имеет свою Конституцию, законодательство, территорию, государственные языки, систему органов государственной власти и местного самоуправления, государственные символы [3]. Похожую по смыслу формулировку содержит и статья 1 Конституции Республики Башкортостан: «Республика Башкортостан является демократическим правовым государством в составе Российской Федерации, выражающим волю и интересы всего многонационального народа республики. …Ста-тус Республики Башкортостан и границы ее территории могут быть изменены только с согласия Республики Башкортостан» [4]. Пункт 1 статьи 1 Конституции Кабардино-Балкарской Республики гласит, что Кабардино-Балкарская Республика есть демократическое правовое государство в составе Российской Федерации [6].
Особый интерес представляет закрепление принципа территориальной целостности Российской Федерации в конституциях новых субъектов – Донецкой и Луганской народных республик. Так, согласно части 3 статьи 1 Конституции Донецкой
Народной Республики, принятой Постановлением Народного Совета 30 декабря 2022 года, территория Донецкой Народной Республики является единой и неделимой и составляет неотъемлемую часть территории Российской Федерации [5]. Аналогичная формулировка содержится и в Конституции Луганской Народной Республики [7].
Таким образом, принцип территориальной целостности находит прямое или опосредованное закрепление в конституциях республик в составе РФ.
Однако, несмотря на огромную работу по преодолению центробежных тенденций и прекращению пресловутого «парада суверенитетов», проделанную Конституционным Судом Российской Федерации во второй половине девяностых годов, до недавнего времени в конституциях республик по-прежнему можно было встретить тезис об их государственном суверенитете. Так, до 26 января 2023 года пункт 1 статьи 1 Конституции Республики Татарстан имел следующую формулировку: «Республика Татарстан – демократическое правовое государство, объединенное с Российской Федерацией Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан и Договором Российской Федерации и Республики Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан» и являющееся субъектом Российской Федерации. Суверенитет Республики Татарстан выражается в обладании всей полнотой государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики Татарстан и является неотъемлемым качественным состоянием Республики Татарстан» [8]. Актуальная редакция указанной статьи звучит следящим образом: «Республика Татарстан – демократическое правовое государство в составе Российской Федерации. Государственность Республики Татарстан выражается в обладании Республикой Татарстан всей полнотой государственной власти вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики Татарстан, наличии своей территории, населения, системы органов государственной власти, своей Конституции и законодательства, государственных языков и государственных символов Республики Татарстан» [9]. Как видим, положение о государственном суверенитете республики из статьи исключено, хотя по не вполне понятным причинам такая редакция сохранялась около 20 лет, несмотря на соответствующее решение Верховного Суда Российской Федерации [11] и Постановление Конституционного Суда Российской Федерации [10]. При этом в приведенных выше конституциях Донецкой и Луганской республик отсутствует даже положение об их государственном статусе, они именуются просто «субъектами в составе Российской Федерации». Таким образом, наблюдается определенное неравенство правового статуса и среди самих республик в составе Российской Федерации. Более того, отсутствие в конституциях новых республик положения об их государственном статусе создает позитивный политико-правовой прецедент и может (а, возможно, и должно) послужить примером для других республик в составе Российской Федерации для исключения соответствующего положения из их учредительных актов.
В случае реального признания за республиками государственного статуса придется признать и их суверенитет, который является важнейшим признаком государства и означает независимость, самостоятельность и верховенство соответствующего территориального образования, что не может сочетаться с самой природой Российской Федерации, которая является единым государством и во всех отношениях выступает как единая государственно-правовая и международно-правовая личность. Логическую точку в данном вопросе ставит Р.Ю. Мюллерсон: «Если же государство входит в состав другого государства, то потеря, а не просто ограничение суверенитета, неизбежна. Суверенитет – не просто независимость государства, которая всегда относительна. Суверенитет предполагает их неподчиненность друг другу. Поэтому субъекты федерации, даже обладающие широкими полномочиями, не являются суверенными образованиями»
Данная точка зрения представляется нам абсолютно верной и с достаточной степенью основательности опровергающей концепции, которые подразумевают деление или ограничение суверенитета или вообще не признают суверенитет основным признаком государства. Принципиальным в этой позиции является то, что суверенитет имеет лишь федерация в целом. Только федерация имеет суверенный характер, и в соответствии с этим субъекты федерации не являются суверенными политическими организмами, хотя активно участвуют в формировании суверенитета федерации. Как отмечает С.А. Авакьян, «для характеристики данного обстоятельства, как правило, используют понятие автономии, именовать это обстоятельство суверенитетом – дело лишь вкуса и терминологических позиций, но если суверенитет определяется как верховенство внутри страны и независимость во внешнеполитической сфере, что само по себе подразумевает его единство и неделимость, и если сущность федерации не содержит элементы конфедеративного объединения, тогда становится ясным, что субъект федерации – не государство» [16, с. 24].
При этом нужно учитывать, что современная Россия является не договорной, а именно конституционно-правовой федерацией, что подтверждается мнениями многих исследователей [16, с. 45; 15, с. 44]. В соответствии с положениями ч. 1 ст. 15 Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, применяется на всей территории Российской Федерации, имеет прямое действие, следовательно, обладает верховенством по отношению ко всем иным правовым актам, в том числе и Федеративному Договору – единственному документу, дающему определенные основания говорить о договорной природе российского федерализма. Данный тезис находит свое развитие и в статье 1 Раздела II Конституции Российской Федерации, согласно которой «в случае несоответствия положениям Конституции Российской Федерации положений Федеративного договора… действуют положения Конституции Российской Федерации». Положение о приоритете Конституции по отношению к Федеративному Договору получило нормативное и доктринальное подтверждение в Комментарии Конституционного Суда «О суверенитете в едином федеративном государстве и конституционном статусе субъектов федерации» [14,с. 89–99].
Конституционно-правовая природа Российской Федерации подтверждается и тем фактом, что при принятии в состав России новых субъектов (Республики Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей) применялась процедура, предусмотренная Конституцией и Федеральным законом [2]. Никакие акты договорного характера, относящиеся к сфере федеративных отношений, между новыми субъектами и Российской Федерацией не заключались. Международные договоры, заключенные между Российской Федерацией, ДНР и ЛНР, как ключевой этап принятия республик в состав Российской Федерации в данном контексте юридического значения не имеют.
Федерализм и территориальная целостность Российской Федерации
Также следует отметить, что изменения, внесенные в текст Конституции Российской Федерации по результатам всенародного голосования, оказывают системное воздействие на существующую модель федеративных отношений.
Так, оставшаяся без изменений часть 3 статьи 77 Конституции устанавливает, что «в пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации» [1].
Согласно обновленной редакции статьи 132 (часть 3), органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории. Нельзя обойти вниманием и положения части 3 статьи 132 Конституции Российской Федерации, согласно которой «Особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом».
Полагаем, что обновленные конституционные нормы формируют принципиально новый алгоритм взаимодействия между центральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, объединяя их в единую систему публичной власти. Таким образом, установленная положениями обновленной Конституции модель федерализма, не нарушая конституционных принципов равноправия и самостоятельности субъектов федерации в пределах их компетенции, обеспечивает более высокий уровень централизации и скоординированности функций и полномочий между всеми уровнями публичной власти. Обновленную конституционную модель федеративных отношений можно с определенной долей условности охарактеризовать как «централизованный федерализм». Такая модель федерализма позволяет покончить с опасными центробежными тенденциями, характерными для государственнотерриториального устройства России в недавнем прошлом, и создать оптимальные условия для обеспечения суверенитета и территориальной целостности нашей страны.
По мнению ряда авторов, сформировавшемуся в последние десятилетия, тенденции к усилению центральной власти противоречат самой идее федеративного государства. Так, С.М. Шахрай отмечает, что помимо модели кооперативного федерализма, закреплённой в Конституции 1993 года, в стране реализуется так называемый «унитарный федерализм», главным признаком которого является стремление к централизации при сохранении лишь внешних, декоративных атрибутов федеративного государства [18, с. 12]. Комментируя данную точку зрения, следует отметить, что использование термина «унитарный» применительно к современной конституционной модели российского федерализма, несмотря на наличие в ней очевидных трендов на усиление роли центральной власти, представляется не вполне корректным с логической точки зрения, поскольку термины «унитаризм» и «федерализм» традиционно выступают в качестве своеобразных антонимов в рамках традиционного научного конституционно-правового дискурса.
Полагаем, что следует согласиться с точкой зрения Н.М. Добрынина, который справедливо отмечал, что закономерные для современной России тренды на усиление централизации ни в коем случае не следует воспринимать в качестве некоего ущемления народовластия (демократии) и демонтажа принципов и механизмов «вертикального разделения властей».
По мнению автора, «Подобные опасения имеют лишь одну альтернативу: она отчетливо и наиболее выраженно проявилась в практике российского федерализма в период 1991–2000 гг., когда государство столкнулось и с «парадом суверенитетов», и порочной системой договорной индивидуализации взаимоотношений федерального центра с субъектами Российской Федерации, и многими другими аспектами намечавшегося в те годы распада единого государства…» [13, с. 9–15].
Таким образом, конституционно-правовая модель российского федерализма основывается на следующих принципах:
-
1. Верховенство Конституции, которая обладает высшей юридической силой по отношению ко всем иным правовым актам, в том числе, и касающимся федеративных отношений;
-
2. Территориальная целостность, не предусматривающая возможности выхода субъектов из состава Российской Федерации;
-
3. Неделимость государственного суверенитета, источником которого выступает многонациональный народ Российской Федерации;
-
4. Единство правового пространства, обеспеченное верховенством Конституции и федеральных законов на всей территории страны;
-
5. Единая система публичной власти, включающая органы государственной власти федерального уровня, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления;
-
6. Принцип государственной целостности в сочетании с принципом равноправия и самоопределения народов Российской Федерации.
Указанные принципы одновременно выступают и в качестве конституционно-правовых гарантий территориальной целостности Российской Федерации.
Данный вывод подтверждается и положениями части 3 статьи 5 Конституции Российской Федерации, согласно которой «Федеративное устройство Российской Федерации основано (курсив мой – Т. И.) на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации» [1]. Очевидно, что, говоря о «государственной целостности», законодатель имеет в виду, в том числе, и целостность территориальную. При этом государственная целостность выступает по отношению к целостности территориальной в качестве более широкого, комплексного понятия, включающего помимо чисто территориального компонента также единство государственной власти, государственного суверенитета и правового пространства. При этом очевидно, что без обеспечения территориальной целостности достижение целостности государственной практически невозможно.
В соответствии со статьей 4 Конституции Российской Федерации суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. Конституция и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации, Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории, что также подтверждает обоснованность вывода о генетическом родстве принципов российского федерализма и конституционноправовых гарантиях территориальной целостности страны. На основании вышеизложенного представляется возможным прийти к выводу, имеющему принципиальное значение для темы настоящего исследования: принципы территориальной и государственной целостности, недели- мости государственного суверенитета Российской Федерации выступают в качестве более значимых конституционно-правовых ценностей, нежели принцип федеративного устройства. Данный вывод подтверждается и положениями статьи 88 Конституции Российской Федерации [1], в соответствии с которой Президент Российской Федерации вправе применять меры федерального вмешательства в дела субъектов РФ.
В этой связи важно отметить, что проблема асимметричности в построении Российской Федерации и неравенства конституционно-правового статуса ее субъектов, в значительной степени решенная на политическом и правовом уровне, остается нерешенной на уровне формально-юридическом. По нашему мнению, закрепление в Конституции за республиками в составе РФ статуса государств в условиях изменившейся геополитической обстановки и беспрецедентного внешнего давления на Россию может сыграть роль «мины замедленного действия», заложенной под фундамент российской государственности. При этом необходимо учитывать, что укрепление российского федерализма – насущная комплексная проблема, требующая достаточно гибкой и дальновидной политики, учитывающей долговременные (стратегические) и текущие (конъюнктурные) потребности и интересы всех составных частей единого государственного организма.