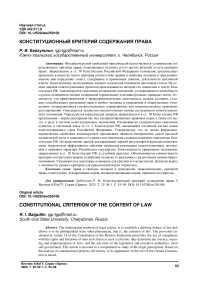Конституционный критерий содержания права
Автор: Байгутлин Расул Исмагилович
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Публично-правовые (государственно-правовые) науки
Статья в выпуске: 1 т.25, 2025 года.
Бесплатный доступ
Фундаментальной проблемой юридической науки является установление определяющего признака права, позволяющего отличать его от других явлений, то есть критерия права. Закрепленное в ст. 18 Конституции Российской Федерации положение предписывает применять в качестве такого критерия соответствие правам и свободам человека и гражданина: именно они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность публичной власти. Комплексному исследованию данного положения посвящена настоящая статья. На основе анализа конституционных проектов прослеживается история его появления в тексте Конституции РФ. Анализируется смысловое содержание положения, устанавливается способность служить основанием оценки содержания нормативных и индивидуальных правовых актов. Отмечается, что правотворческая и правоприменительная деятельность должна создавать условия, способствовать реализации прав и свобод человека и гражданина в общественных отношениях, подвергающихся соответствующему нормативному или индивидуальному правовому регулированию. Описывается ценностно-идеологическая основа исследуемого конституционного положения. Определяется юридическая природа закрепленного в ст. 18 Конституции РФ предписания - норма-декларация как вид специализированных правовых норм, а также его место и роль в системе конституционных положений. Раскрываются содержательно-смысловое единство и системная связь со ст. 2 Конституции РФ, являющейся составной частью основ конституционного строя Российской Федерации. Утверждается, что по своим формально-юридическим свойствам анализируемое предписание является императивом самой высокой юридической силы и защищено от отмены или изменения сложным порядком пересмотра Конституции РФ. Но выполнение данной декларативной нормой регулятивной функции возможно лишь посредством эффективного действия механизма реализации конституционных положений о правовом характере Российского государства. Констатируется применение положений, закрепленных в ст. 18 Конституции РФ, в судебной практике. Обосновывается совместимость критерия соответствия правам и свободам человека и гражданина с различными типами правопонимания. Указываются и некоторые основания для критики его недостатков. Делается вывод о значимости данного критерия для юридической науки и практики.
Права и свободы человека и гражданина, правопонимание, критерий права, конституция, декларативная норма, специализированная норма, правовое государство
Короткий адрес: https://sciup.org/147247437
IDR: 147247437 | УДК: 342.511.8 | DOI: 10.14529/law250109
Текст научной статьи Конституционный критерий содержания права
Фундаментальное методологическое значение для юриспруденции имеет вопрос о понятии права. Множество предложенных на него ответов принято анализировать в рамках того или иного варианта типологии правопо-нимания. Представляется, что отечественная дискуссия о правопонимании должна учитывать факт закрепления в ст. 18 Конституции Российской Федерации предписания, задающего требование к содержанию законов и юридической практике: «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием». Императивный, выразительно четкий и емкий характер данного конституционного положения дает основание рассматривать соответствие правам и свободам человека и гражданина в качестве необходимого определяющего признака, позволяющего отличать право от других явлений, то есть критерия права.
В рамках логики различения формальных (связанных с внешней стороной, выражением, способом существования явления) и содержательных (характеризующих содержание, то, из чего складывается, состоит явление, единство всех основных элементов целого, его свойств и связей) критериев, очевидно, что упомянутый критерий является содержательным. Термин «критерий содержания права» используется в научном обороте. Наиболее обстоятельно соответствующее понятие разработано в монографии В. А. Толстика и Н. А. Трусова, где под критерием содержания права авторами понимается «совокупность ценностей и идеалов, отражающих компромиссный интерес социума и отвечающих требованию исполнимости» [10, с. 71]. В настоящей статье термины «критерий содержания права» и «содержательный критерий права» будут использованы как синонимичные и наделены значением определяющего, имманентного содержанию права признака. Избежать необходимости определить понятия «право» и «содержание права» позволяет предпринятая ниже по тексту попытка показать принципиальную совместимость рассматриваемого критерия с основными типами правопонимания.
Уточним, что ст. 18 Конституции РФ закрепляет два связанных по смыслу, но самостоятельных положения: 1) права и свободы человека и гражданина действуют непосредственно; 2) права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Критерий содержания права устанавливается вторым положением. Следует заме- тить, что оно обычно находится «в тени» первого и не становится предметом самостоятельного исследования.
Обстоятельства появления в тексте Конституции РФ рассматриваемого положения важны для полноценного уяснения как собственно его смысла, так и места в системе других норм Основного закона. В этой связи оправдан экскурс в историю разработки проекта действующей Конституции. Обращение к опубликованным в многотомном издании под общей редакцией О. Г. Румянцева стенограммам, материалам и документам Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РСФСР (с декабря 1991 года – РФ) позволяет уверенно проследить генезис интересующего положения.
Впервые близкая, но не тождественная по содержанию формулировка обнаруживается в одном из альтернативных (по отношению к «официальному», разрабатываемому Конституционной комиссией) проектов конституции, а именно – в проекте Российского движения демократических реформ (далее – проект РДДР), подготовленного к марту 1992 года С. С. Алексеевым и А. А. Собчаком, при участии Ю. X. Калмыкова, С. А. Хохлова [6, с. 609–642]. Часть 5 ст. 2 проекта среди прочих положений провозглашает: «Права человека являются в России непосредственно действующим правом. Они как таковые обязывают законодательство, исполнительную власть и правосудие» [6, с. 611].
Проект РДДР был положен в основу так называемого «президентского» проекта, представленного Б. Н. Ельциным на проведенном 29 апреля 1993 г. под его председательством совещании руководителей субъектов Российской Федерации [4, с. 417–464]. Концептуальные политико-правовые основы проекта участникам совещания пояснил С. С. Алексеев [4, с. 410–416]. Расположенная в гл. 1 ст. 10 «президентского» проекта провозглашала: «Права и свободы человека являются в России непосредственно действующими. Они как таковые определяют смысл, содержание и применение законов, обязывают законодательную, исполнительную власти, местное самоуправление и обеспечиваются правосудием» (курсив наш – Р. Б.) [4, с. 419]. Заметно отличие в формулировках («права и свободы человека», а не «права человека»; «определяют смысл, содержание и применение законов, обязывают законодательную, исполнитель- ную власти, местное самоуправление и обеспечиваются правосудием», а не «обязывают законодательство, исполнительную власть и правосудие»), но очевидна и преемственность смыслового содержания.
Над взятым за основу «президентским» проектом дальнейшая работа проводилась в рамках созванного Президентом Конституционного совещания. В одобренном его участниками 12 июля 1993 г. проекте [5, с. 141– 175] окончательно устанавливается место данных норм в конституционном тексте – статья 18 главы 2 [5, с. 145]. Изменения формулировки здесь носят уже сугубо редакционный характер.
После завершения в октябре 1993 года конституционного кризиса окончательная доработка текста будущей конституции производилась на основе проекта Конституционного совещания с включением ряда положений проекта Конституционной комиссии. К началу ноября формулировка ст. 18 содержательно изменилась – теперь ее положения распространились также на права и свободы гражданина [6, с. 1047] (ранее – только человека ). Но и на начало ноября, по-прежнему, сохраняется формула: «Права и свободы человека и гражданина … обязывают законодательную и исполнительную власти, местное самоуправление …» (для сравнения итоговая формулировка имеет более точное и законченное смысловое содержание: «Права и свободы человека и гражданина … определяют … деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления»).
Наконец, к 10 ноября 1993 года текст проекта Конституции РФ приобретает окончательный вид и публикуется в официальных источниках.
Итак, содержание ст. 18 Конституции Российской Федерации формировалось, проходя следующую цепочку проектов: альтернативный проект РДДР С. С. Алексеева и А. А. Собчака – «президентский» проект – проект Конституционного совещания. Авторство замысла данной статьи, вероятно, принадлежит С. С. Алексееву. Во всяком случае, спустя годы, в 2009 году, высказывая сожаления об образовавшихся в ходе работы Конституционного совещания «наслоениях» в тексте Конституции (исказивших гуманистическую суть «Конституции Человека»), бытующем в обществе негативном «образе» Основного закона, а также критически оценивая внесенные в него последующие изменения, свои надежды на реализацию изначального замысла С. С. Алексеев связывал именно со ст. 18 [1, с. 33-50]. Согласно его убеждению, «есть все основания утверждать, что ст. 18, да и соответствующее ей содержание российской Конституции, представляет собой предельно прочную, надежную основу в борьбе за действительную и полную реализацию современных цивилизационных начал, высоких демократических идеалов и принципов. И, значит, - высокую оптимистическую надежду на благополучие и процветание нашей страны» [1, с. 52].
Возвращаясь к заявленному выше критериальному значению закрепленного в ст. 18 Конституции РФ положения, попробуем представить его в таком качестве.
Глагол «определять» производен от существительного «предел», то есть граница чего-либо. Следовательно, определять смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления - значит ограничивать их, устанавливать пределы, за которые они не могут выходить. Это, в свою очередь, можно понимать так: законы (фактически - все источники позитивного права, учитывая место и роль закона в их системе), правоприменительная деятельность (включая судебное правоприменение) должны создавать условия, способствовать реализации прав и свобод человека и гражданина в общественных отношениях, подвергающихся соответствующему нормативному или индивидуальному регулированию. Например, принимаемый закон в той мере является правовым, в какой как его общая концепция, так и конкретные устанавливаемые нормы не выходят в содержательно-смысловом отношении за рамки, очерченные задачей обеспечения реализации прав и свобод, связанных с конкретным предметом регулирования. Соответственно, не должны приниматься (издаваться) нормативные или индивидуальные правовые акты, отменяющие или умаляющие права и свободы личности, что прямо устанавливается ч. 2 ст. 55 Конституции РФ применительно к законам. Конечно, данные утверждения следует сопроводить необходимыми оговорками, связанными с институтом ограничения прав и свобод. Интерпретационная деятельность по установлению смысла правовых норм также должна осуществляться через призму заданного ст. 18 Конституции РФ требования.
Если признать корректность приведенных выше рассуждений, то можно заключить следующее. Данный содержательный критерий предполагает различения права и закона (впрочем, как и любая постановка вопроса о содержательном критерии права, с чем не согласны, например, В. А. Толстик и Н. А. Трусов [10, с. 16, 17]), предписывая применять вполне определенное ценностно-идеологическое основание для такой демаркации -примат ценности личности, ее прав и свобод. Это органично сочетается с провозглашаемым в ст. 2 гл. 1 Конституции РФ положением («Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства»), образуя единую несущую конструкцию концептуального ядра Конституции, отмеченную печатью характерного для начала 1990-х гг. либеральнодемократического романтизма (отличавшего и многие другие известные проекты Основного закона). Также ст. 18 Конституции РФ придает смысловую определенность закрепленной ч. 1 ст. 1 характеристике Российской Федерации как правового государства.
Какой бы ни была оценка обусловленного естественно-правовыми взглядами авторов проекта Конституции РФ содержания анализируемого положения, диалектическая связь с позитивной формой выражения определяет его юридические свойства и значение для правового регулирования.
Статья 18 Конституции РФ, как отмечалось выше, содержит два правовых предписания. Следует признать, что каждое из них является специализированной нормой (нормой специального действия, исходной или отправной нормой): первое - норма-принцип (принцип непосредственного действия прав и свобод человека и гражданина), второе - декларативная норма. Учитывая, что нормы-декларации «отражают сформированные в обществе ценностные правовые ориентиры» [7, с. 138], и их отличает программно-целевая направленность, в обоснование последнего утверждения уместно вновь процитировать С. С. Алексеева: «Она (ст. 18 Конституции. -Р. Б.) по своему реальному значению является высокозначимой, центральной и определяющей записью-установкой в Конституции Рос- сии, соответствующей ее фундаментальным демократическим основам и призванной направить государственно-правовое развитие нашей страны в соответствии с принципами свободы, идеалами и ценностями последовательной демократии (сохранены разрядка и курсив автора - Р. Б.)» [1, с. 52]. Анализируемое положение ст. 18 Конституции РФ официально провозглашает, что права и свободы человека и гражданина устанавливают содержательно-смысловые пределы для правотворческой, правоприменительной и правоинтерпретационной деятельности.
Рассмотрение данной «записи-установки» (в терминологии С. С. Алексеева) в качестве нормы-декларации позволяет говорить о наличии у нее, в частности, признаков общеобязательности и государственно-властного характера, способности оказывать регулирующее воздействие на общественные отношения. Учитывая существующую дискуссию относительно допустимости определения содержащихся в нормативных правовых актах деклараций, принципов, дефиниций и некоторых других их положений через родовое понятие «норма права», отметим, что в контексте данной работы этот спор непринципиален. Признание рассматриваемой декларации общим правовым предписанием существенно не изменит оценку ее юридических свойств.
Статья 18 Конституции РФ расположена в гл. 2, следовательно, входит в состав «защищенной» от поправок части Конституции (гл. 1, 2, 9). Изменить ее содержание можно лишь в порядке пересмотра Конституции РФ, установленном ст. 135 (гл. 9). Более того, представляются очевидными уже отмеченные содержательно-смысловое единство (когерентность) и системная связь рассматриваемого положения со ст. 2 гл. 1 Конституции РФ. Действительно, именно в силу того, что права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита составляют обязанность государства, они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Иерархия и системность конституционных положений в данном случае проявляются в следующем. Статье 2 Конституции РФ в силу предписания, закрепленного ч. 2 ст. 16, не могут противоречить никакие другие положения иных глав Конституции РФ, включая закрепленные в ст. 18. Следовательно, между ст. 2 и 18 есть не только содержательная, но и формальноюридическая согласованность. Системный характер содержания Конституции РФ в целом и положений о правах и свободах в частности задан выраженным в основах конституционного строя Российской Федерации исходным концептуальным замыслом и архитектоникой конституционного текста и поддерживается принципиальной неизменяемостью гл. 1 и 2 Конституции РФ. В свою очередь, обоснование смыслового единства и системной связи ст. 2 и 18 Конституции РФ позволяет допустить возможность распространения на ст. 18 важнейшего свойства основ конституционного строя - никакие другие положения Конституции, за пределами гл. 1, не могут им противоречить (ч. 2 ст. 16).
Таким образом, по своим формальноюридическим свойствам анализируемое предписание является императивом самой высокой юридической силы и защищено от отмены или изменения сложным порядком пересмотра Конституции.
Утверждение соответствия правам и свободам человека и гражданина в качестве содержательного критерия права невозможно без эффективного механизма реализации конституционных положений о правовом характере Российского государства. Только посредством его действия декларативная норма, закрепленная в ст. 18 Конституции РФ, может оказывать реальное регулирующее воздействие на общественные отношения, производить необходимый социальный результат. Согласно распространенной позиции, специализированные правовые нормы действуют в связке с регулятивными нормами-правилами поведения, однако следует допустить, как считал М. И. Байтин, что они также «имеют прямое действие, объем и значение которого заметно возросли с принятием Конституции РФ 1993 г.» [2, с. 213].
Нормы, входящие в состав ст. 18 Конституции РФ, применяются в судебной практике, в частности соответствующие ссылки содержат многие решения Верховного Суда Российской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации (см., например, определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2021 г. № 309-ЭС21-4917 по делу № А71-1097/2020, Постановление Конституционного Суда Российской Фе- дерации от 26 марта 2024 г. № 12-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 1224 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А. Э. Стаценко»). Определяющее значение в деле обеспечения реализации регулятивного потенциала ст. 18 Конституции РФ принадлежит Конституционному Суду Российской Федерации в связи с возможностью легального толкования конституционного текста и предметом конституционного правосудия (ст. 125 Конституции РФ).
С точки зрения теории права, рассматриваемый содержательный критерий обладает некоторым достоинством. Парадоксально, но данное конституционное положение, как представляется, может рассматриваться в качестве содержательного критерия права даже при отсутствии строгой определенности относительно самого понятия права – оно совместимо с разными типами правопонимания, будет «работать» в рамках и позитивизма, и юс-натурализма, и социологического, и интегративного правопонимания. Действительно, для юридического позитивизма решающее значение имеет объективация данного критерия на вершине иерархии правовых норм. Естественно-правовая природа критерия очевидна и не вызывает сомнения. Для социологических концепций права важна связь прав и свобод человека и гражданина с реализацией интересов социальных субъектов и их обеспеченностью правосудием. Следовательно, и интегративное правопонимание может использовать критерий соответствия правам и свободам человека и гражданина при условии его совместимости с отмеченными выше классическими типами правопонимания.
Следует признать, что такой содержательный критерий права, как соответствие правам и свободам человека и гражданина, конечно, несовершенен. Так, отмечая недостаточное теоретическое обоснование прав человека, используемое как прагматичное средство достижения консенсуса при их признании представителями разных правовых культур, Н. В. Варламова обращает внимание, что это «ведет к их фактической октроированно-сти, производности и зависимости от признания в рамках того или иного сообщества. Права человека утрачивают надпозитивный характер, а вместе с ним и свое социальное предназначение – служить человеку защитой, в том числе и от позитивного правопорядка, выступать в качестве критерия для его оценки и необходимого переустройства» [3, с. 41]. Практичность данного критерия тоже проблемна – здесь применима аргументация, ставящая под сомнение возможность прямого действия прав и свобод без их нормативного опосредования, в частности, ссылка на общий характер конституционных положений, их предельную абстрактность. Однако высокой степенью абстрактности обладают и иные известные содержательные критерии (принцип формального равенства В. С. Нерсесянца [8, с. 25], особый характер коммуникации А. В. Полякова [9, с. 204] и др.), лишенные при этом достоинств прямого закрепления в тексте Конституции РФ. Сложным является вопрос обоснования выбора при осуществлении правосудия между конкурирующими основными правами индивидов, исключающими возможность их одновременной реализации. Наконец, на уровне критики Основного закона возможна постановка вопроса и относительно оправданности его аксиологического содержания. Тем не менее, факт закрепления в Конституции РФ положения, способного выполнять функцию содержательного критерия права, не должен недооцениваться юридической наукой, как с теоретических, так и с практических позиций.
Список литературы Конституционный критерий содержания права
- Алексеев С. С. У истоков Конституции России. Субъективные заметки. М.: Статут, 2016. С. 15-55.
- Байтин М. И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух веков). Саратов: СГАП, 2001. 416 с.
- Варламова Н. В. Права человека как «недостаточно теоретически обоснованные соглашения» // Права человека и политика права в XXI в.: перспективы и вызовы: сборник научных трудов по итогам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2022. С. 27-41.
- Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990-1993 гг.): в 6 т. М.: Волтерс Клувер, 2008. Т. 4. Кн. 1. 1120 с.
- Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990-1993 гг.): в 6 т. М., 2009. Т. 4. Кн. 3. 1120 с.
- Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990-1993 гг.): в 6 т. М., 2009. Т. 5. 1120 с.
- Калинина Е. А. Декларативные нормы права: общетеоретический обзор // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2023. № 11. С. 136-141.
- Нерсесянц В. С. Философия права. М.: Норма: ИНФРА-М, 2023. 256 с.
- Поляков А. В. Что есть право? // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2012. № 6 (305). С. 199-209.
- Толстик В. А., Трусов Н. А. Борьба за содержание права. Нижний Новгород: Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2008. 202 с.