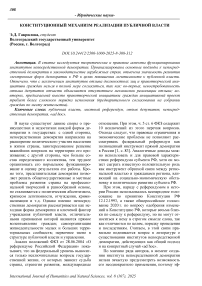Конституционный механизм реализации публичной власти
Автор: Гаврилова Э.Д.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 8 (107), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются теоретические и правовые аспекты функционирования институтов непосредственной демократии. Проанализированы основные подходы к непосредственной демократии в законодательстве зарубежных стран, отмечена значимость развития электронных форм демократии в РФ в целях повышения легитимности к публичной власти. Отмечено, что с исключением институтов отзыва должностных лиц и правотворческой инициативы граждан нельзя в полной мере согласиться, так как: во-первых, невостребованность отзыва депутатов отчасти объясняется отсутствием механизмов реализации отзыва; вовторых, предлагаемый вместо правотворческой инициативы граждан инициативный проект требует более сложного порядка исполнения (предварительного согласования на собрании граждан по месту жительства).
Публичная власть, местный референдум, отзыв депутатов, непосредственная демократия, «ad hoc»
Короткий адрес: https://sciup.org/170210898
IDR: 170210898 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-8-308-312
Текст научной статьи Конституционный механизм реализации публичной власти
В науке существуют давние споры о преимуществах и недостатках каждой формы демократии в государствах: с одной стороны, непосредственная демократия направлена на расширение политического участия населения в жизни страны, заинтересованное решение важнейших вопросов на территории его проживания; с другой стороны, чем больше состав определенного коллектива, тем труднее организовать его нормальное функционирование и оценку результатов его работы. Кроме того, представительная демократия позволяет решать общегосударственные и местные проблемы развития страны на профессиональной творческой и разнообразной основе, но сталкивается с политическим абсентизмом, кризисом легитимности, отчуждения, криминализации и т.д. Однако именно непосредственная демократия рассматривается как исходная форма демократии и ключевой фактор учреждения публичной власти, отличительными признаками которой являются прямое волеизъявление граждан; самоорганизация жизнедеятельности малых и больших территориальных сообществ; первичное звено в структуре публичной власти и управления.
Анализ положений ФКЗ от 28.06.2004 «О референдуме Российской Федерации» показывает, что на федеральный уровень выносятся только исключительные вопросы государственной жизни, от которых зависит судьба страны, стратегия развития, международные отношения. При этом, ч. 5 ст. 6 ФКЗ содержит 10 исключений из этого перечня вопросов. Отсюда следует, что правовые ограничения и экономические проблемы не позволяют рассматривать федеральный референдум как полноценный инструмент прямой демократии в России [1, c. 83]. Аналогичные доводы можно использовать и для правовой характеристики референдума субъекта РФ, хотя он может сыграть известную положительную роль как инструмент обратной связи между региональной властью и гражданами региона, влияющий на социально-экономическую обстановку и политическое развитие субъекта РФ.
При этом, наряду с референдумом в истории России использовалось всенародное голосование по принятию Конституции РФ 12.12.1993, а также общероссийское голосование 2020 г. по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, которые весьма близки по смыслу к референдуму, но не могут относиться к нему в строгом смысле слова, так как отличаются по целям, порядку проведения и последствиям. Считаем, в этой связи правильно поднимается вопрос в литературе о существовании институтов непосредственной демократии, действующих как общий подход и на конкретный случай «ad hoc».
По мнению ряда авторов, в момент создания института непосредственной демократии нельзя зачастую предусмотреть возможность его неоднократного применения, поэтому эф- фект его использования под «конкретную задачу» («ad hoc») считается предпочтительным, хотя и рискованным делом, способным порождать злоупотребления властью при его проведении [2, c. 41].
По мнению других, общероссийское голосование 2020 г. по поправкам к Конституции РФ было как раз таким экстраординарным мероприятием («ad hoc»), обусловленным обстановкой пандемии COVID-2019. Однако, напротив, оно находится в русле тенденции по постепенному сокращению форм непосредственного участия населения в осуществлении публичной власти [3, c. 20]. Считаем, что наиболее оптимальной и результативной формой непосредственной демократии можно считать местный референдум: он не просто наиболее близко находится к нуждам населения, но и тесно соприкасается с другими формами непосредственной демократии на местном уровне.
По мнению исследователей, наиболее распространенными институтами прямой демократии в практике муниципального управления выступают местный референдум, муниципальные выборы, опрос граждан, внесение инициативных проектов, отзыв выборных лиц и депутатов, территориальное общественное самоуправление. Все они имеют преимущества и недостатки, нуждающиеся в глубоком изучении. Так, местный референдум охватывает максимальную возможность участия в подготовке, проведении и исполнении референдума, максимальное соответствие интересам жителей, максимально широкое информирование граждан о событии и проблеме, вынесенной на голосование. Но местный референдум дорогостоящий в организации, имеет дело со слабой политической культурой людей и отсутствием заинтересованности местных чиновников в привлечении населения к местному самоуправлению.
Муниципальные выборы реально и эффективно выявляют волю населения, но они проходят в условиях низкого политического сознания граждан. В свою очередь, в отличие от местного референдума, опрос граждан является относительно недорогой процедурой и применяется даже на части территории муниципального образования, но его результаты являются рекомендательными, не обязывают органы местной публичной власти учитывать мнение населения по решению проблемы, к тому же вообще информировать людей о про- ведении опроса. Наконец, при организации взаимодействия органов местного самоуправления, территориального общественного самоуправления и граждан имеют место проблемы информирования граждан о существовании таких структур, финансового обеспечения (содействия) их работы и денежного поощрения актива органов территориального общественного самоуправления [4, c. 312].
В перечне форм непосредственной демократии выделяются также общественный контроль и наказы избирателей. В частности, проводится мысль, что наказы избирателей отличаются от обращений граждан доверительным характером отношений между гражданином-избирателем и депутатом избирательного округа, из которого следует исключительно коммуникативный эффект, связанный с повышением или снижением (утратой) степени легитимности, кризисом доверия избирателя.
За невыполнение наказов жителей наступает лишь политическая ответственность, выраженная в голосовании за другого кандидата на последующих выборах, в то время как за не рассмотрение обращений граждан наступает юридическая ответственность, предусмотренная законодательством РФ. Отметим, что рост теоретического интереса к формам прямого участия народа в осуществлении публичной власти обусловлен некоторыми кризисными тенденциями в развитии представительной демократии. Опросы общественного мнения показывают, что довольно часто люди не удовлетворены в полном объеме деятельностью представительных и законодательных органов власти, разочарованы в принятых решениях, испытывают низкий уровень доверия к парламентским институтам.
Конституции бывших постсоветских республик по-разному трактуют соотношение референдумов и выборов. Например, в России ч. 3 ст. 3 Конституции РФ и конкретизирующие её нормы ФКЗ «О референдуме РФ» располагают референдум на первом месте по сравнению с выборами. Аналогичное текстуальное предпочтение института референдума перед выборами наблюдается в Конституциях Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Литвы. В свою очередь, преимущество выборов перед референдумом закреплено в Конституциях Армении, Грузии, Киргизская Республика, Эстонии. В Конституциях же Туркменистана, Молдовы, Латвии и Узбе- кистана отсутствует перечень форм непосредственной демократии, не дающий возможность выделить приоритетную форму, а в Узбекистане, например, подчеркивается ценность национальных традиций местного самоуправления (Махалла).
Таким образом, в зарубежных государствах выделяются два вида форм непосредственного волеизъявления населения по вопросам публичного управления: 1) подлежащие обязательному исполнению, реализующие волю населения муниципальной единицы (муниципальные референдум, выборы, сходы граждан). Такой порядок преобладает в Конституциях Италии, Швейцарии, Польши, Болгарии, Армении и т.д.; 2) выявляющие общественное мнение населения по какому-либо вопросу местной жизни и подлежащие учету при принятии (не принятии) решения органами местного самоуправления (правотворческая инициатива, обращения граждан, опросы населения и пр.). Например, в законодательстве США, Кыргызстан и пр. Интересно отметить, что в Российской Федерации на уровне федерального законодательства не предусмотрен институт отзыва выборных должностных лиц, хотя в законодательстве ряда субъектов РФ он урегулирован. В законодательстве других стран эта процедура прописывается более подробно (США, Швейцария, Япония, Перу, Китай).
Отсюда следует, что Россия использует передовой зарубежный опыт в регулировании перечня форм непосредственной демократии. Тем не менее, выявляются неоднозначно трактуемые тенденции в развитии непосредственной демократии граждан в местном самоуправлении. В главе 5 проекта ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» № 40361-8, внесенного для рассмотрения в Государственную Думу сенатором Российской Федерации А.А. Клишасом и депутатом Государственной Думы П.В. Крашенинниковым, перечень форм непосредственной муниципальной демократии сокращен. Предлагается исключить отзыв депутатов, голосование по изменению границ или преобразованию муниципального образования, правотворческую инициативу граждан [5, с. 6].
На наш взгляд, если изменение границ или реорганизацию муниципального образования можно вынести на местный референдум, то с исключением институтов отзыва должност- ных лиц и правотворческой инициативы граждан нельзя в полной мере согласиться. Поскольку невостребованность отзыва депутатов отчасти объясняется отсутствием механизмов реализации отзыва, а предлагаемый вместо правотворческой инициативы граждан инициативный проект требует более сложного порядка исполнения, в частности, предварительного согласования на собрании граждан по месту жительства.
Также следует отметить теоретическую дискуссию о том, кого можно считать субъектом непосредственной демократии в целом: народ, группу граждан или отдельного гражданина. Как правильно отмечает И.Б. Орешкина, идеальным составом представительного органа публичной власти является такой, когда он основан на максимально широком представительстве различных социальных групп общества [6, с. 62].
Как показывает история парламентаризма, существует закономерность эффективности народного представительства: чем проще социальная структура общества и унифицированы полномочия парламента, тем эффективность относительно высока, в противном же случае (усложнение структуры и рост функций) эффективность падает. Субъектами представительной демократии в общем смысле принято считать народ и избранный им представительный орган. Однако эти понятия в конституционной практике парламентаризма и с позиции выражения интересов требуют постоянного уточнения.
В частности, народ может пониматься как совокупность всех дееспособных граждан страны, часть принявших участии в голосовании, часть тех, кто именно проголосовал за избранных депутатов. В свою очередь, представитель публичной власти от имени народа может трактоваться тоже различным образом: отдельный депутат, депутатская фракция или в целом парламент как орган и ветвь власти. С учетом того, что преобладающей задачей парламента является правотворчество, существует риск адекватности отражения в его деятельности конкретных намерений избирателей или осознанной ими общей воли: они должны быть действительно юридически значимыми, нуждающимися в нормативном закреплении, относящимися к компетенции парламента.
Отличия публичного представительства от представительства в частном праве состоят в том, что депутат представительного органа выражает не частную волю доверителей, а общее благо и пользу государства, отдельной территории. Поэтому объективно воля депутата может не всегда совпадать с волей избирателей. В этом плане единственно разумным и оправданным выходом из ситуации является развитие института диалога с избирателями, учитывающего их мнение и изменяющиеся потребности.
В науке и практике парламентаризма одной из основных проблем считается обеспечение мандата народного доверия к избранным представителям публичной власти, подтверждения легитимности действующих представителей. Однако единого и универсального решения этой проблемы не существует. Как верно пишет А.Н. Гуторова, все определяется тем, какова истинная природа мандата депутата: ограничивается она лишь правовыми вопросами или включает в себя также социально-психологические характеристики лич- ности представителя и организационные гарантии его деятельности [7, c. 34].
Полагаем, что ключевой характеристикой взаимоотношений депутата и избирателей является доверие, которое должно пониматься не только как результат, что избиратели выбрали представителя и все (к сожалению, большинство депутатов в реальной парламентской практике живут именно по такому принципу), но и как процесс поддержания доверия, выражающийся в постоянной обратной связи и учете меняющихся представлений и интересов граждан.
Вечной проблемой парламентской деятельности является соотношение мнений большинства и меньшинства. Несмотря на распространенные зарубежные подходы о т.н.
«рамках» деятельности представителя, не допускающие подавление меньшинства большинством при создании законов [8, c. 108], полностью избежать этого не получится. Считаем, что необходимо вырабатывать согласительные процедуры учета позиций меньшинства в парламентской практике, достижения в обществе максимальной гармонии социальных интересов, рациональности и долговеч- ности принятых нормативных актов.
В теории парламентского права помимо трех основных функции парламента (законодательной, представительной и контрольной) принято выделять также предлагаемые некоторыми исследователями неформальные (латентные) функции парламента, которые противоречат его публичной гласной природе деятельности и стоящим перед ним задачам обеспечить стабильное развитие государства и общества.
Очевидно, такие функции, могут возникать как дефект его правильного функционирования. Вместе с тем, новейшие тенденции развития Интернет-технологий и модернизации парламентской деятельности обоснованно позволяют, на наш взгляд, выделять в деятельности современных парламентов концептуальную информационную функцию. Она заключается в максимально доступном информировании граждан, институтов гражданского общества и самих законодателей об имеющихся нормативных правовых актах, законопроектах, о научной, информационнометодической и просветительской деятельности парламента [9, c. 9].
Таким образом, современное состояние непосредственной и представительной демократии в Российской Федерации позволяет утверждать, что они в целом соответствуют назревшим потребностям общества, адаптируются под реализацию новых задач и требований публичной власти. Большую роль в ускорении этих процессов может сыграть наряду со всем вышеперечисленным развитие электронной демократии в нашей стране.