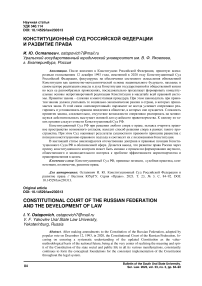Конституционный суд Российской Федерации и развитие права
Автор: Остапович И.Ю.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Публично-правовые (государственно-правовые) науки
Статья в выпуске: 3 т.23, 2023 года.
Бесплатный доступ
После внесения в Конституцию Российской Федерации, принятую всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, изменений в 2020 году Конституционный Суд Российской Федерации, фокусируясь на обеспечении системного осмысления обновленной Конституции как ценностно-методологической основы национального будущего, находясь в самом центре реализации смысла и духа Конституции государственной и общественной жизни во всех ее разнообразных проявлениях, последовательно продолжает формировать концептуальные основы непротиворечивой реализации Конституции в масштабе всей правовой системы. Принятие закона - сложная и многоэтапная процедура. При этом законодатель при принятии закона должен учитывать те социально-экономические реалии в стране, в которых принимается закон. В этой связи «неповоротливый» парламент не всегда успевает оперативно реагировать и устанавливать правила поведения в обществе, в которых оно нуждается. Сложность принятия закона, следовательно, отсутствие возможности оперативно реагировать на меняющуюся действительность выступает основой для судейского правотворчества. К одному из таких органов следует отнести Конституционный Суд РФ. Конституционный Суд РФ при решении любого спора о праве, пытаясь очертить правовое пространство возможного согласия, находит способ решения спора в рамках такого пространства. При этом Суд оценивает результаты сущностного правового принципа равенства с позиции конституционно-правового подхода и соотносит их с положениями Конституции. В настоящей статье анализируются отечественная доктрина и правовые позиции Конституционного Суда РФ в обозначенной сфере. Делается вывод, что развитие права России через призму конституционного контроля может быть связано с процессом формирования научного, общественного и законодательного интереса к проблеме эффективности нормотворчества и правоприменения в целом.
Конституционный суд рф, правовые позиции, судебная практика, компетенция, полномочие, развитие права
Короткий адрес: https://sciup.org/147241808
IDR: 147241808 | УДК: 340.114 | DOI: 10.14529/law230313
Текст научной статьи Конституционный суд Российской Федерации и развитие права
Социальная обусловленность разработки и принятия закона подразумевает следование законодателя тем социально-экономическим реалиям, в которых принимается закон. Вместе с тем неполнота действующего законодательства и его «отставание» от жизненных коллизий представляются вполне закономерными явлениями. Неспособность законодателя оперативно реагировать на меняющуюся действительность выступает основой для судейского нормотворчества [5, с. 152; 9, с. 86; 13, с. 11; 14; 16, с. 85]. Особую роль при этом играет Конституционный Суд Российской Федерации (далее – Конституционный Суд РФ, Суд или КС РФ) [3]. В России как государстве, находящемся на переходном этапе своего исторического развития, Конституционный Суд РФ при решении любого спора о праве, пытаясь очертить правовое пространство возможного согласия, находит способ решения спора в рамках такого пространства. При этом КС РФ оценивает результаты сущностного правового принципа равенства с позиции конституционно-правового подхода и соотносит их с положениями Конституции [10, с. 6; 11]. Учитывая то, что в настоящее время важно сфокусироваться на обеспечении системного осмысления обновленной Конституции как ценностно-методологической основы национального будущего, необходимо формировать концептуальные основы ее последовательного непротиворечивого развертывания в масштабе всей правовой системы. Конституционный Суд РФ находится в самом центре реализации этой ответственной миссии – максимальном охвате конституционными нормами, смыслом и духом Конституции государственной и общественной жизни во всех ее разнообразных проявлениях.
Нормотворческий аспект . Воздействие Конституционного Суда РФ на нормотворческую деятельность может иметь императивную и рекомендательную формы.
При использовании императивной формы орган конституционного контроля включает в правовую позицию перечень обязательных действий, которые законодатель должен совершить в целях устранения выявленной неконституционной нормы из системы права. «Номинальное» устранение (признание неконституционной и не подлежащей применению либо выявление конституционноправового смысла без отмены нормативного акта) осуществляет сам орган конституционного контроля, при этом он не может вторгаться в сферу компетенции органа законодательной власти и устанавливать новые правовые предписания исходя из соображений целесообразности. Причем рекомендации в императивной форме, как правило, формируются в резолютивной части. Например, Конституционный Суд РФ регулярно использует фор- мулировку «федеральному законодателю надлежит» (Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2012 г. № 29-П) либо требует незамедлительно принять меры по устранению правовой неопределенности (Постановление Конституционного Суда РФ от 25 июня 2015 г. № 17-П), внести в законодательство изменения, основанные на его правовой позиции (Постановление Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2014 г. № 4-П).
При использовании рекомендательной формы орган конституционного контроля в России чаще признает проверяемую норму не противоречащей Конституции, но при этом прямо указывает, что в системе действующего правового регулирования эта норма не получила четкой взаимосвязи с соответствующими конституционными положениями. В данном случае Конституционный Суд РФ указывает, что выявленный конституционно-правовой смысл проверяемой нормы не препятствует федеральному законодателю установить пределы правового регулирования (Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта 2013 г. № 6-П). Кроме того, в практике Конституционного Суда РФ рекомендательный характер используется в мотивировочной части постановления (определения с позитивным содержанием). При этом отмечается, что сформулированная в нем позиция не исключает возможности принятия федеральным законодателем дополнительных нормотворческих решений (Определение Конституционного Суда РФ от 7 октября 2014 г. № 2162-О).
Таким образом, императивная или рекомендательная формы воздействия на нормотворческую деятельность используются Конституционным Судом РФ в зависимости от того, каким образом решен вопрос о соответствии проверяемой нормы Конституции РФ. Вместе с тем Конституционный Суд РФ не видит отличий между рекомендательной и императивной частями реализаций рекомендаций как правоприменителем, так и законодателем, что подтверждается информационноаналитическими отчетами об исполнении решений.
Далее, воздействие Конституционного Суда РФ на нормотворческую деятельность осуществляется с учетом представлений об эффективности норм права и качестве законов. Таких прямо установленных полномочий по проверке эффективности или качества законов нет, однако Суд их реализует при про- верке нормативных актов на предмет соответствия Конституции государства.
Эффективность норм права в юридической науке традиционно понимается как соотношение цели законодателя и реально достигнутого результата. Одна позиция сводится к тому, что эффективность правовых норм является отношением между фактически достигнутым, действительным результатом их действия, и той социальной целью, ради которой они были приняты [23, с. 70]. Другая определяет эффективность правовых норм, скорее, как абстрактное понятие, делая акцент на результативности как способности оказывать влияние на общественные отношения в определенном, полезном для общества направлении [20; 26]. Согласно третьему подходу под эффективностью понимаются социальные последствия, которые возникают при реализации законов. Основное внимание здесь уделяется способности правовых норм при правильном их применении создавать позитивный результат в регулировании общественных отношений [17, c. 29; 19, с. 11]. В целом эффективность правовых норм, созданных в государстве, можно рассматривать в неразрывной связи с их способностью адекватно регулировать общественные отношения. При этом идеальная конструкция появляется, когда писаный закон может сохранять работоспособность в течение многих лет.
Степень эффективности правовых норм связывается с критериями - измерителями полноты достижения целей, обусловивших установление указанных норм [24, с. 24]. Наиболее продуктивной считается классификация условий эффективности действия норм по основанию, связанному с элементами механизма действия права. В связи с этим традиционно выделяется несколько групп: 1) условия, относящиеся к самой норме (соответствие нормы тем условиям социальноэкономической и политической жизни, в которых она принималась); 2) условия совершенствования правоприменительной деятельности; 3) условия, определяющие уровень правосознания граждан [21, с. 92].
Кроме того, в качестве условий эффективности правовых норм выделяются вид и качество нормотворчества, правовой нормы, качество правоприменения и особенности адресата, на которого рассчитана данная правовая норма [4, с. 12]. Перечень условий эффективности расширяется при определении соци- альной и конституционной ценностей, состояния законности, надлежащего уровня реализации правовых норм, уровня правосознания и правовой культуры, степени юридической грамотности их адресата [25, с. 116].
В данном контексте воздействие конституционно-контрольного нормотворчества органов конституционного контроля на нормотворческую деятельность происходит через определение конституционности законов с использованием оценки их качества и эффективности. В ходе конституционного контроля самостоятельно не оценивается ни то, ни другое. Однако при проверке соответствия нормы закона положениям Конституции РФ и качество, и эффективность подвергаются осмыслению. Кроме того, или качество (например, наличие правовой неопределенности), или эффективность (неконституционные последствия) правоприменения стимулируют обращение в орган конституционного контроля или способствуют возникновению спора, разрешаемого специализированными органами конституционного контроля. При этом сформулированная правовая позиция оказывает воздействие на систему права непосредственно. Так, признанное неконституционным положение закона не подлежит применению либо утрачивает силу. Выявленный конституционно-правовой смысл положения закона, признанного конституционным, приобретает значение обязательного как для нормотворчества, так и для правоприменения.
Таким образом, разработано несколько приемов определения конституционности (эффективности) правовых норм. Осуществление конституционного контроля воздействует на систему права через правовые позиции, созданные с учетом понимания эффективности в контексте защиты прав и свобод, получивших конституционное закрепление. Примерно в таком направлении рассуждает С. Д. Князев, указывая, что в решениях Конституционного Суда РФ затронут самый широкий спектр правовых вопросов, вследствие этого актуальное восприятие российского законодательства в отечественной системе права невозможно без учета сформулированных Конституционным Судом РФ правовых позиций [15, с. 5]. Фактически это так и происходит. Причем можно видеть и правовую оценку качества закона, и правовую оценку эффективности его применения. Например, в Постановлении от 2 июля 2013 г. № 16-П
Конституционный Суд РФ совершил ряд действий: 1) дал оценку качества положений ст. 237 УПК РФ; 2) дал оценку эффективности применения ст. 237 УПК РФ. Эффективность здесь раскрыта в соответствии с назначением уголовного судопроизводства.
Названное Постановление воздействовало на национальную систему права посредством обязывания законодателя внести изменения в действующее правовое регулирование. Вплоть до этого правоприменитель (суды общей юрисдикции) должны руководствоваться изложенными правовыми позициями относительно качества и эффективности проверенной нормы.
В юридической науке сформулирована позиция о том, что если эффективность права как регулятора предопределена, то эффективность конкретных норм законодательства зависит от принципиально другого комплекса факторов: политики государства в соответствующей сфере отношений, экономических условий общественной жизни, формального качества соответствующих нормативных актов и их конкретных предписаний, работы правоприменительных органов, соответствия норм общественному мнению, культуре и традициям народа и т.д. При этом эффективность тех или иных норм может вступать в противоречие с эффективностью права в целом как регулятора социальной и духовной жизни.
Это происходит, если нормы по своей сути носят антиправовой, несправедливый и антигуманный характер, препятствуют социально позитивной самореализации личности, закономерностям социальной и духовной жизни. Разграничение эффективности права и эффективности норм законодательства не означает их противопоставления. Напротив, важнейшей целью государства должно стать обеспечение их взаимосвязи и взаимодополняемости [8, с. 11]. В этой связи воздействие конституционного контроля на систему права подразумевает ведение им соответствующей прогнозной деятельности.
Таким образом, следует отметить, что Конституционный Суд РФ прямо не наделен правом оценивать эффективность принятого закона либо его качество, при этом в своей практике при реализации собственных полномочий фактически он их оценивает.
Правовая идеология, правовая грамотность. Поскольку Конституция РФ обладает высшей юридической силой и общеобязательным характером на всей территории страны, закрепленная ею система ценностей имеет общенациональное мировоззренческое значение, выступает в роли российского конституционализма или общегражданской философии. Зафиксированный в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации перечень традиционных российских духовно-нравственных ценностей, по сути, является суммой конституционных ценностей, включает в себя жизнь, достоинство, права и свободы человека, высокие нравственные идеалы, справедливость и преемственность поколений [12]. В этой связи воздействие практики Конституционного Суда РФ на развитие права может быть рассмотрено и через процесс формирования юридической идеологии. Центром этого процесса в современный период выступает повышение правовой грамотности и правовой культуры.
Человек, его права и свободы, провозглашенные в Конституции Российской Федерации, являются высшей ценностью, вследствие чего юридическая идеология должна строиться вокруг этого постулата. Уважение прав и свобод человека, равно как и уважение государством и лицами, реализующими властные полномочия, права, не является в целом элементом какой-то конкретной формы правления. Не выступает оно и отличительным атрибутом политического режима. В Конституции определение государственной идеологии отсутствует, вследствие чего можно сделать вывод о том, что в качестве таковой рассматриваются признание и защита прав и свобод человека.
В этом контексте следует привести высказывание Н. С. Бондаря о том, что в основе ценностных конституционных нормативов современной демократии лежат категории свободы, власти, собственности как основополагающих компонентов современных социальных, экономических и политических систем [2, с. 13]. Одновременно возникает проблема обеспечения баланса между тремя ветвями власти, в рамках разрешения которой может успешно реализовываться конституционный контроль.
Воздействие практики Конституционного Суда РФ на право, тесно связано с тремя явлениями: уровнем общей правовой культуры; тенденциями наличия (отсутствия) правового нигилизма; степенью информированности общества о наличии такого органа и его полномочиях. В России согласно данным социологического опроса уровень правовой культуры и правовой информированности пока не находится на должной высоте [7]. Об опасности усиления тенденций правового (конституционного) нигилизма достаточно обоснованно упоминается в ряде исследований [6; 22, с. 159]. В целях повышения правовой культуры, доверия граждан к органам государственной власти и преодоления правового нигилизма предпринимаются различные действия (Указ Президента РФ от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 17 апреля 2017 г. № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций»).
Дальнейшее укрепление конституционной законности может осуществляться посредством формирования и внедрения на основе научно определенных индикаторов эффективной системы всеобъемлющего конституционного мониторинга, заключающегося в анализе действующего права и правоприменительной практики на предмет реализации конституционных ценностей. В этой связи актуальным является вопрос о выработке перечня указанных индикаторов, на основе которых оценивалась бы эффективность законодательства и правоприменительной практики. При этом важным методологическим критерием являются вопросы конституционного патриотизма, конституционного мышления и культуры, конституционно-правового мировоззрения граждан (Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»).
Необходимо делать акцент на верховенстве права как базовом принципе современной цивилизации и универсальной гуманистической ценности, которая находится в основе конституционно-правовой доктрины и практической деятельности органов государственной власти по укреплению конституционной законности. Обеспечение и соблюдение верховенства права являются гарантией развития демократии, реализации прав и свобод человека, утверждения России как демократического правового государства.
Воздействие практики КС РФ на минимизацию степени правового нигилизма в обще- стве зависит от справедливости разрешения им юридических коллизий. Принятие решений, отвечающих принципу соразмерности (пропорциональности) и разумности при соблюдении баланса конституционно защищаемых ценностей [1, с. 73], позволит повысить доверие граждан к специализированным органам конституционного контроля. Так, согласно социологическому опросу граждан Германии на вопрос о том, каким органам государственной власти они оказывают наибольшее доверие, ответ был однозначным. Около 75 % ответили, что Федеральный Конституционный Суд ФРГ – один из самых беспристрастных, чьи решения в сравнении с другими органами государственной власти больше отражают реальность происходящего и поэтому отвечают человеческим потребностям. На взгляд автора, именно такая оценка жителей страны в отношении специализированного органа конституционного контроля позволит повысить доверие граждан к органам государственной власти, что в свою очередь будет способствовать минимизации правового нигилизма.
Любые правоотношения внутри страны должны осуществляться в рамках конституционно закрепленных норм. Эта задача может быть реализована посредством надежной системы конституционного контроля. При этом необходимо оценить не только конституционно-контрольные полномочия, закрепленные правовой нормой. Имеют значение и конкретные возможности их влияния на построение правовой системы и развитие гражданского общества. Если преодоление правового нигилизма представляет в современных условиях проблему, разрешаемую, скорее, средствами принуждения, то преодоление правовой грамотности в целом построено на методе убеждения. Развитие правового государства, формирование гражданского общества и укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой культуры. Без нее не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной защищенности публичных интересов.
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан направлены на формирование высокого уровня правовой культуры населения (Указ Президента РФ от 28 апреля 2011 г. № Пр-1168 «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан»). При ее реализации могут быть созданы традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду. Документ поощряет добропорядочность и добросовестность как преобладающую модель социального поведения и направлен в целом на преодоление правового нигилизма в обществе, который препятствует развитию России как современному цивилизованному государству.
Анализ проблем воздействия практики Конституционного Суда РФ на развитие права позволяет сделать следующие выводы.
-
1. Развитие права России через призму конституционного контроля может быть связано с процессом формирования научного, общественного и законодательного интереса к проблеме эффективности нормотворчества и правоприменения в целом.
-
2. Практика конституционного контроля в России показывает, что формы воздействия на право могут выражаться: 1) в толковании конституционных положений; 2) в формулировании правовых позиций, раскрывающих конституционно-правовой смысл норм, признанных конституционными; 3) в конституционном истолковании законов и определении конституционно допустимых рамок их применения; 4) в участии в формировании доверия граждан и правовой культуры.
-
3. Формы воздействия Конституционного Суда РФ на право могут носить императивный или рекомендательный характер. При этом влияние на нормотворческую и правоприменительную деятельность осуществляется в обеих формах, в мотивировочной части содержатся рекомендации, в резолютивной, как правило, определены императивные установления. Практика реализации решений подтвердила обязательность как рекомендательных, так и императивных правовых позиций.
Список литературы Конституционный суд Российской Федерации и развитие права
- Авдеев Д. А. Конституционно-правовые ценности: понятие, виды и иерархия // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Т. 6. № 2 (22). С. 73–91.
- Бондарь Н. С. Конституционализация социально-экономического развития российской государственности (в контексте решений Конституционного Суда РФ). М.: Юрайт, 2006. 223 с.
- Василевич Г. А., Остапович И. Ю. Нормативность решений специализированных органов конституционного контроля в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан: сравнительно-правовое исследование. Минск: Право и экономика, 2016. 311 с.
- Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Норма, 2001. 410 с.
- Гук П. А. Инновации судебного нормотворчества в России: доктрина, практика, техника // Юридическая техника. 2021. № 15. С. 152–157.
- Гуляихин В. Н. Правовой нигилизм в России. Волгоград: Перемена, 2005. 280 с.
- Дзыбова С. Г., Мордвицкая А. А. Пути повышения уровня правосознания и правовой культуры сельского населения (на примере Республики Адыгея) // Вопросы российского и международного права. 2022. Т. 12. № 4 А. С. 38–47.
- Жинкин С. А. Эффективность права: антропологическое и ценностное измерение: дис. … д-ра юрид. наук. Краснодар, 2009. 401 с.
- Закаева П. Р. Концепция суверенного судебного нормотворчества как основа становления сильной судебной власти: предпосылки появления и перспективы развития // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические науки. 2021. № 2 (42). С. 86–95.
- Зорькин В. Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика. М.: Норма, 2017. 591 c.
- Зорькин В. Д. Судебная власть перед вызовами времени. URL: http://www. ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=93.
- Зорькин В. Д. Конституция защищает традиционные ценности. URL: https:// riafan.ru/23796120-predsedatel_konstitutsionnogo_suda_valerii _zor_kin_ konstitutsiya_zaschisc-haet_traditsionnie_tsennosti/.
- Кечекьян С. Ф. О толковании законов судом // Право и жизнь. 1928. № 1. С. 3–14.
- Кетц X., Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. М.: Междунар. отношения, 1998. Т. 1. 478 с.
- Князев С. Д. Конституционный Суд в правовой системе Российской Федерации // Журнал российского права. 2013. № 12. С. 5–12.
- Лазарев В. В. Инновационная деятельность суда // Актуальные проблемы экономики и права. 2021. Т. 15. № 1. С. 85–93.
- Лебедев М. П. Об эффективности воздействия права на общественные отношения // Советское государство и право. 1963. № 1. С. 22–31.
- Матузов Н. И. Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны «одной медали» // Правоведение. 1994. № 2. С. 3–16.
- Михайловская И. Б. Вопросы социологии в уголовном процессе // Советская юстиция. 1970. № 19. С. 11–12.
- Пашков А. С., Чечот Д. М. Эффективность правового регулирования и методы ее выявления // Советское государство и право. 1965. № 8. С. 3–11.
- Правоприменение: теория и практика / отв. ред. Ю. А. Тихомиров. М.: Формула права, 2008. 431 c.
- Рехачева Т. В. Отношение населения России к проблемам конституционного нигилизма // Правоприменение. 2022. Т. 6. № 2. С. 159–168.
- Самощенко И. С., Никитинский В. И., Венгеров А. Б. К методике изучения эффективности правовых норм // Советское государство и право. 1971. № 3. С. 70–78.
- Сырых В. М. Социология права. М.: Норма, 2001. 480 с.
- Ткачева Н. В. Меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, в уголовном процессе России: монография. Челябинск, 2004. 191 с.
- Шаргородский М. Д. Наказание, его цели и эффективность. Л.: ЛГУ, 1973. 160 с.