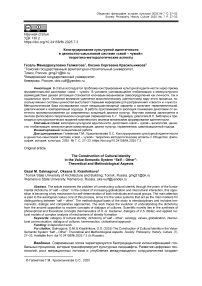Конструирование культурной идентичности в ценностно-смысловой системе «свой – чужой»: теоретико-методологические аспекты
Автор: Галмагова Г.М., Красильникова О.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 7, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется проблема конструирования культурной идентичности через призму фундаментальной дихотомии «свой – чужой». В условиях усиливающейся глобализации и межкультурного взаимодействия данная оппозиция становится ключевым механизмом самоопределения как личности, так и социальных групп. Основное внимание уделяется аксиологическому (ценностному) ядру этого процесса, поскольку именно системы ценностей выступают главными маркерами для разграничения «своего» и «чужого». Методологическая база исследования носит междисциплинарный характер и включает герменевтический, диалогический и компаративный подходы. В работе прослеживается эволюция понимания дихотомии от античного противопоставления до современных концепций диалога культур. Научная новизна заключается в синтезе философскотеоретических концепций (герменевтика Х.Г. Гадамера, диалогика В.С. Библера) и прикладных культурологических моделей комплексного анализа механизмов формирования идентичности.
Категория культурной идентичности, дихотомия «свой – чужой», аксиология, ценности, глобализация, межкультурная коммуникация, диалог культур, герменевтика, цивилизационный подход
Короткий адрес: https://sciup.org/149148781
IDR: 149148781 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2025.7.3
Текст научной статьи Конструирование культурной идентичности в ценностно-смысловой системе «свой – чужой»: теоретико-методологические аспекты
условия для постоянного и плотного контакта между носителями различных культур. Эта ситуация, с одной стороны, открывает новые возможности для взаимообогащения и сотрудничества, а с другой – обостряет проблему сохранения культурной самобытности. В мультикультурной среде вопрос «Кто мы?» перестает быть риторическим, превращаясь в насущную экзистенциальную и социальную задачу.
Центральным механизмом, посредством которого личность и общество отвечают на этот вопрос, является универсальная когнитивная оппозиция «свой – чужой». Эта дихотомия служит не просто инструментом классификации, но и фундаментальной ценностной рамкой, определяющей границы социальной группы, формирующей чувства принадлежности, солидарности и безопасности. Через разграничение «своего» (понятного, безопасного, правильного) и «чужого» (неизвестного, потенциально опасного, инакового) культура выстраивает свою внутреннюю структуру и определяет вектор взаимодействия с внешним миром.
Однако в основе этого разграничения лежат не столько формальные признаки (язык, территория, раса), сколько глубинные ценностные установки. Именно аксиологическое ядро культуры – система представлений о добре и зле, должном и недопустимом, прекрасном и безобразном – определяет, что будет принято как «своё», а что отвергнуто как «чужое». Следовательно, анализ механизмов конструирования идентичности невозможен без обращения к ее ценностной составляющей. Как отмечает О.М. Коморникова, в современном обществе возрастает значимость личной ответственности индивида за формирование своей идентичности в процессе социального взаимодействия, что напрямую связано с его ценностными ориентирами (Коморникова, 2022: 52).
Несмотря на обширную изученность дихотомии «свой – чужой» в политологии и социологии, где она часто рассматривается как инструмент политической мобилизации, ее глубинное аксиологическое измерение в рамках диалогической философии и герменевтики остается недостаточно концептуализированным. Существующие исследования либо концентрируются на философских основаниях, либо на прикладных кейсах, редко предлагая модель, которая бы синтезировала эти уровни анализа. Актуальность настоящего исследования, таким образом, заключается в осмыслении ценностных оснований и построении теоретического моста между философской онтологией «Другого» и конкретными механизмами культурной самоидентификации в глобализирующемся мире. Понимание того, как функционирует оппозиция «свой – чужой», позволяет не только объяснить природу межкультурных напряжений и конфликтов, но и найти пути для выстраивания конструктивного диалога.
Цель статьи – провести теоретико-методологический анализ аксиологических механизмов конструирования культурной идентичности в рамках ценностно-смысловой системы «свой – чужой».
Для достижения ее необходимо решить следующие задачи:
-
1. Рассмотреть философские и исторические основания дихотомии «свой – чужой».
-
2. Обосновать ключевую роль аксиологического подхода в изучении культурной идентичности.
-
3. Проанализировать концепцию диалога культур как механизма взаимодействия «своего» и «чужого».
-
4. Выявить специфику восприятия российской идентичности в цивилизационном контексте.
Исследование носит теоретический характер и основывается на качественном анализе и синтезе научных источников. Объектом исследования выступает феномен дихотомии «свой – чужой» как фундаментальный принцип культурной организации. Предметом исследования являются аксиологические механизмы, лежащие в основе конструирования культурной идентичности через данную оппозицию.
Методология работы имеет комплексный, междисциплинарный характер.
Диалогический подход, развитый в работах отечественной философии, предполагает рассмотрение идентичности как результата взаимодействия с «Другим». Особенно важной является концепция «диалога культур» В.С. Библера. Как отмечает Т.Б. Длугач, анализируя ее, культура по своей сути диалогична и может существовать только на границе с другими культурами. Именно в точке этого соприкосновения рождаются новые смыслы (Длугач, 2020: 101).
Аксиологический (ценностный) подход является центральным в нашем исследовании. Он предполагает, что в основе разграничения «своего» и «чужого» лежат ценностные системы.
Компаративный (сравнительно-культурологический) подход используется для сопоставления различных культурных моделей, в частности, через анализ цивилизационных моделей «Восток – Запад» (Долгов, 2020) и прикладных параметров, таких как измерения Г. Хофстеде (Hanzheng Lin, Lingling Lou, 2024).
Ключевым аспектом методологии является синергетическое взаимодействие перечисленных подходов. Герменевтический подход (Х.-Г. Гадамер) задает общую рамку понимания культуры как диалога, где «слияние горизонтов» является целью. Диалогический подход (В.С. Библер) конкретизирует этот процесс, постулируя, что идентичность онтологически невозможна без «Другого». Аксиологический подход, в свою очередь, наполняет эту абстрактную структуру конкретным содержанием, указывая, что предметом диалога и точкой расхождения являются именно ценности. Наконец, компаративный подход служит верификационным полем, позволяя проверить, как эта теоретическая модель функционирует на эмпирическом материале реальных культурных систем.
Философские истоки дихотомии «свой – чужой» . Бинарная оппозиция «свой – чужой» представляет собой фундаментальный антропологический инвариант и одну из ключевых структур, организующих человеческое сознание и социальную реальность. Данный механизм демаркации, служащий основой для формирования как индивидуальной, так и коллективной идентичности, исторически манифестировался в различных формах культурного центризма. Парадиг-мальным примером является античная дихотомия «эллины – варвары», где культура первых постулировалась не просто как одна из многих, но как норма, мерило цивилизованности, по отношению к которой все прочие культуры определялись как отклонение или неполноценность.
Гносеологическое и аксиологическое обоснование подобного культуроцентризма можно обнаружить в знаменитом тезисе софиста Протагора: «Человек есть мера всех вещей существующих, что они существуют, и не существующих, что они не существуют»1. Как справедливо отмечает исследователь Н.П. Волкова, при экстраполяции на уровень культуры данный тезис имплицирует, что каждая культурная система порождает собственную уникальную систему аксиологических координат, собственную «меру», посредством которой она не только интерпретирует, но и оценивает иные культурные миры (Волкова, 2019: 702). В рамках такой парадигмы «своя» культура приобретает статус эталона, абсолютной и единственно верной точки отсчета, что неизбежно ведет к этноцентрической замкнутости.
Кардинальная трансформация в осмыслении данной проблемы происходит в ХХ в. и связана с развитием диалогической философии (М. Бахтин, М. Бубер) и философской герменевтики. В рамках этих направлений фигура «Другого» перестает восприниматься как объект для ассимиляции или отрицания и начинает рассматриваться как конститутивное условие для самопознания и самоидентификации субъекта. «Другой» выступает в роли необходимого «зеркала», в котором культура только и способна обрести рефлексивное понимание собственной специфики и уникальности.
Наиболее последовательную концептуализацию эта идея получила в трудах В.С. Библера, разработавшего концепцию диалога культур. Согласно его логике, культура как феномен существует не в своей самодостаточности, а на границе с иными культурами, в напряженном поле диалога. Культура обретает и осознает свою уникальность, свою «логику», лишь вступая во взаимодействие с альтернативными культурными логиками. Фундаментальный для его концепции принцип «Чтобы быть собой, я должен быть другим для других» оказывается в полной мере применимым и к онтологии культуры как целостного субъекта (Длугач, 2020: 98).
Таким образом, философская мысль ХХ в. осуществила переход от трактовки дихотомии «свой – чужой» как непреодолимого онтологического барьера к ее осмыслению как продуктивного пространства для диалогического взаимодействия, интерсубъективной коммуникации и взаимного обогащения культурных миров. Статичная оппозиция преобразуется в динамическое и диалектическое отношение, в котором «Другой» является не угрозой идентичности, а ее необходимым условием.
Аксиологическое ядро идентичности и его роль в межкультурной коммуникации . Анализ философских концепций диалога, в частности, идей диалогизма (М.М. Бахтин, М. Бубер), позволяет сформулировать фундаментальный тезис: процесс социокультурной идентификации и дифференциации, выраженный в дихотомии «свой – чужой», имеет преимущественно аксиологическую природу. Самоидентификация индивида и социальной группы фундирована на совпадении базовых ценностных ориентаций и мировоззренческих установок, формирующих общую «картину мира». Иными словами, конструирование общности «мы» происходит через интернализацию и разделение определенной системы ценностей, в то время как «другой» определяется через несовпадение или конфликт с этой системой. Философский тезис о ценностной природе идентичности находит свою операционализацию в прикладных кросс-культурных исследованиях. Если В.С. Библер и Х.-Г. Гадамер отвечают на вопрос, «почему» культура нуждается в Другом, то такие модели, как теория культурных измерений Г. Хофстеде или теория базовых человеческих ценностей Ш. Шварца, поясняют, «вокруг чего» строится диалог или конфликт.
Среди этих подходов концепция культурных измерений Г. Хофстеде, детально рассмотренная в работе Х.Чж. Лин и Л.Л. Лоу, предлагает валидный инструментарий для компаративного анализа аксиологических систем. Такие бинарные оппозиции, как «индивидуализм – коллективизм» или «дистанция власти», являются не просто абстрактными категориями, а операциона-лизированными параметрами, которые демонстрируют, как ценностные доминанты имплицитно детерминируют широкий спектр социальных практик: от моделей семейных отношений и образовательных стратегий до корпоративной культуры и политического устройства (Hanzheng Lin, Lingling Lou, 2024: 359). Так, измерение «индивидуализм – коллективизм» является прямым отражением фундаментального ценностного выбора между приоритетом личной автономии и лояльностью группе, что напрямую определяет границы «своего» круга.
Описанный механизм выполняет функцию аксиологического фильтра, который обуславливает селективность межкультурного заимствования. Культурные системы демонстрируют высокую степень рецептивности к утилитарно-прагматическим элементам (технологии, экономические модели, управленческие методики), поскольку их интеграция не затрагивает глубинных основ мировосприятия. Однако те же системы проявляют значительное сопротивление интрузии экзогенных мировоззренческих конструктов и ценностных парадигм. Это объясняется тем, что именно система ценностей формирует ядро культурной идентичности, обеспечивая ее стабильность и преемственность. В условиях форсированной глобализации, характеризующейся беспрецедентной интенсивностью информационных и культурных потоков, протективная функция аксиологического ядра актуализируется с особой остротой. Индивиды и социальные группы оказываются в ситуации перманентной рефлексии и ревизии собственных ценностных оснований, осуществляя сложный процесс отбора и адаптации глобальных культурных образцов с целью их интеграции без риска эрозии или утраты собственной социокультурной самобытности (Коморникова, 2022: 55).
Конструирование идентичности в цивилизационном контексте: Россия между Востоком и Западом . Теоретический конструкт бинарной оппозиции «свой – чужой», являющийся фундаментальным для социально-гуманитарных наук, получает свою эмпирическую верификацию и демонстрирует эвристическую ценность при анализе конкретно-исторических цивилизационных процессов. В этом контексте российский цивилизационный кейс представляет собой особо репрезентативный пример, поскольку его культурно-историческая идентичность на протяжении столетий конституировалась в поле перманентного напряжения, диалога и конфронтации с цивилизационными полюсами Запада и Востока.
Как справедливо отмечает К.М. Долгов, геополитическое и культурное положение России характеризуется уникальной пограничностью, или лиминальностью. Страна не может быть однозначно отнесена ни к европейскому, ни к азиатскому цивилизационному типу, что порождает системную напряженность в процессах ее национального самоопределения и рефлексии (Долгов, 2020: 198). На протяжении длительных исторических периодов «Запад» в российском дискурсе занимал амбивалентную позицию, выступая одновременно и как герменевтический вызов, и как объект для аксиологического фильтра. С одной стороны, он представал в качестве экзистенциального «Другого», источника внешних угроз и вызовов суверенитету. С другой – функционировал как значимая референтная группа, образец для модернизационных преобразований и культурной аккультурации. Попытки диалога – от петровских реформ до споров западников и славянофилов – можно интерпретировать как сложный, незавершенный процесс «слияния горизонтов», где «чужой» опыт постоянно соотносился с собственными «пред-суждениями», укорененными в православии и общинных ценностях.
Данный дуализм восприятия обусловил формирование сложной, многоуровневой структуры российской идентичности, в рамках которой оппозиция «свой – чужой» утрачивает линейный ха- рактер и приобретает ситуативную и контекстуальную природу. Этот процесс не является достоянием прошлого и активно продолжается в современных условиях глобальной трансформации. Анализируя современные идеологические конструкты, такие как «Русская идея» и «Русский мир», Ю.В. Кот демонстрирует, как осуществляется целенаправленное конструирование национальногосударственной идентичности. Этот процесс основан на артикуляции специфического аксиологического ядра (духовность, примат коллективного над индивидуальным, традиционализм, сильное государство), которое сознательно позиционируется в качестве альтернативы универсалистским ценностям глобализированного постмодернистского западного мира (Кот, 2023: 115). Этот процесс можно также описать через понятие рессентимента (в трактовке Ф. Ницше и М. Шелера), когда идентичность «своего» мира конструируется через негативное противопоставление «чужому», наделяемому чертами морального упадка (бездуховность, потребительство), чтобы компенсировать собственное технологическое или экономическое отставание.
Таким образом, предварительный анализ российского случая демонстрирует, что формирование цивилизационной идентичности представляет собой не статичный феномен, а динамичный, рефлексивный и политически ангажированный процесс. Дихотомия «свой – чужой» в нем выступает не просто как механизм отчуждения, но как сложный инструмент демаркации символических границ, социальной мобилизации и легитимации определенного политического и культурного курса.
В качестве аксиологических механизмов идентифицированы следующие: диалог культур, рефлексивный диалог, ценностная демаркация. Рассмотрим их подробнее.
Диалог культур предполагает взаимопонимание между ними, которое не всегда достижимо исходя из аксиологического и уникального основания каждой культуры. Оппоненты диалога должны попытаться трансформировать «чужого» в «другого» для достижения коммуникативного паритета. В такой ситуации конструирование культурной идентичности осмысляется и закрепляется в структуре «они – это другие»: мы пытаемся вести с «ними» диалог и убеждаемся в исключительности своей культуры, традиции, идентичности. Например, в интеллектуальном споре России XIX в. западники П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен были уверены, что понимают Запад, и считали, что России необходимы западные ориентиры, как следствие, отказ от собственной культурной идентичности. Славянофилы же при этом убеждались в особенности и исключительности своего культурного опыта.
Следующий механизм – рефлексивный диалог. Он помогает участникам межкультурного взаимодействия попытаться критически оценить «свою» и «чужую» культуры, найти точки соприкосновения, с помощью этого механизма не противопоставить «свое» и «чужое», а обменяться смыслами, тем самым дополнить свою культурную идентичность, увидеть забытое, актуализировать героические, патриотические ценности. Например, Отечественная война 1812 г. помогла переосмыслить европеизированной дворянской культуре собственную культурную традицию, вызвала небывалый подъем патриотизма во всех слоях русского общества. Русская элита первой четверти XIX в. вступила в рефлексивный диалог с собственной культурой.
Ценностная демаркация как механизм отделяет «свое» от «чужого», граница в таком случае выполняет первостепенное значение в конструировании культурной идентичности. Ее важность состоит в том, что она диалектически интегрирует отделение и контакт, выполняет жизнеобеспечивающие функции, предполагает избирательность и осторожное отношение к «чужому». Обратимся к культурно-историческим примерам войны 1812 г. В основе ценностей народной культуры была религиозность, которая позволяла маркировать «своих» и «чужих». Неуважительное поведение французов в отношении Православной церкви в 1812 г. (в храмах устраивали конюшни, использовали церковную утварь в быту, стреляли по иконам) убедило русский народ, что пришельцы безбожники, антихристы, враги, чужаки.
Заключение . Проведенное теоретико-методологическое исследование позволяет сформулировать ряд ключевых выводов:
-
1. Дихотомия «свой – чужой» является универсальным и фундаментальным механизмом конструирования культурной идентичности.
-
2. Центральным, смыслообразующим ядром ее выступает аксиологическая система. Именно расхождение в базовых ценностях определяет границы между «своими» и «чужими».
-
3. Современная философия предлагает путь преодоления антагонистического характера оппозиции «свой – чужой» через рефлексивный диалог и «слияние горизонтов».
-
4. Конструирование идентичности является динамическим процессом, который можно проанализировать в цивилизационном масштабе. Например, дуализм восприятия российской идентичности иллюстрирует трансформацию ее ценностей.
Таким образом, проведенный анализ показывает: управление межкультурными отношениями в XXI в. требует перехода от политики идентичности, основанной на жестком исключении «чужого», к ее герменевтике, предполагающей рефлексивный диалог. Игнорирование аксиологического измерения дихотомии «свой – чужой» и отказ от попыток «слияния горизонтов» в современных условиях неизбежно ведут к эскалации цивилизационных конфликтов, в то время как осознанный диалог открывает путь к взаимному обогащению и построению более устойчивого глобального мира.
Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы при разработке образовательных программ по межкультурной коммуникации, в сфере государственной культурной политики и в практике корпоративного управления.
Перспективы дальнейших исследований связаны с переходом от теоретического анализа к эмпирическим изысканиям, изучению преломления дихотомии «свой – чужой» в сознании различных социальных групп и проведению кросс-культурных исследований.