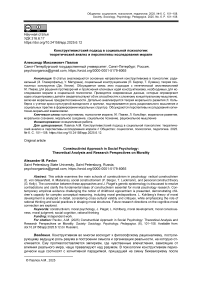Конструктивистский подход в социальной психологии: теоретический анализ и перспективы исследования морали
Автор: Павлов А.М.
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 6, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются основные направления конструктивизма в психологии: радикальный (Э. Глазерсфельд, У. Матурана), социальный конструкционизм (П. Бергер, Т. Лукман), теория личностных конструктов (Дж. Келли). Обсуждается связь этих подходов с генетической эпистемологией Ж. Пиаже для решения противоречий и прояснения ключевых идей конструктивизма, необходимых для исследования морали в социальной психологии. Приводятся современные данные, которые опровергают идею эгоцентризма у детей и свидетельствуют об их способностях к сложному концептуальному мышлению, включая моральные предрасположенности. Детально анализируется теория морального развития Л. Кольберга с учетом кросскультурной валидности и критики, подчеркивается роль рационального мышления и социальных практик в формировании моральных структур. Обсуждаются перспективы исследований когнитивноморальной взаимосвязи.
Конструктивизм, психология морали, Ж. Пиаже, Л. Кольберг, моральное развитие, моральное сознание, моральное суждение, социальное познание, рациональное мышление
Короткий адрес: https://sciup.org/149148425
IDR: 149148425 | УДК: 316.6:17 | DOI: 10.24158/spp.2025.6.12
Текст научной статьи Конструктивистский подход в социальной психологии: теоретический анализ и перспективы исследования морали
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, ,
найденных экспериментальных данных и теоретических противоречий, опровергших механистическую концепцию научени я1.
Однако, несмотря на общую критику эмпиризма и научный прогресс, современный конструктивизм распадается на множество течений, включая несовместимые (Anderson et al., 2000). Такие авторы, как Дж. Раскин (Raskin, 2002), выделяют как минимум три направления: радикальный конструктивизм (Э. Глазерсфельд, У. Матурана), социальный конструкционизм (П. Бергер, Т. Лукман, К. Джерджен), а также теорию личных конструктов (Дж. Келли).
Первое направление радикализирует главный принцип конструирования эмпирического знания (которое не содержится во внешнем мире в готовом виде, но порождается и разворачивается в абстрактных формах мышления) и предлагает рассматривать человека как замкнутую и саморегулирующую эпистемологическую систему под свою задачу адаптации (Фаликман, 2016).
Второе – тоже часто отвергает позицию наивного реализма и признает принцип психологического конструирования: но не внутри изолированного субъективного мира, а преимущественно интерсубъективного (социального), где языковые и культурные практики формируют дискурсивные границы, которые определяют условия возможности мышления и производства знания (Фуко, 1994). К нему еще иногда относят культурно-историческую теорию Л.С. Выготского (1982), который описывал развитие высших психических функций через метафору их появления на двух сценах (сначала на социальной, а после – на внутренней), однако процесс интериориза-ции в его же трактовке не копирует функцию, а по сути конструирует ее вместе со сценой, что часто сближает его с радикалами (Anderson et al., 2000).
Спор между этими направлениями воплощает классическую дихотомию между индивидуальным и социальным в эпистемологии, где первая позиция рискует скатиться в солипсизм, а вторая – в культурный детерминизм (Gergen, 2001). Теория личностных конструктов, предложенная Дж. Келли (Kelly, 1955), занимает промежуточную позицию: субъект объясняется через образ ученого, который экспериментирует с миром и организует его через систему разных биполярных конструктов (правильный/неправильный, добрый/злой, свой/чужой и др.). При этом конструкты могут заимствоваться в социокультурных условиях, но подлежат субъективной интерпретации, проверке предсказания с последующей корректировкой в опыте (Winter, 2016).
В целом это направление оказалось продуктивным для исследований содержания конструктов и позволило лучше объяснить логику их применения как личностных стратегий. Однако ранее существовало и другое родственное направление конструктивизма у Ж. Пиаже (Piaget, 1932), представляющее более фундаментальную методологию – генетическую эпистемологию – науку о происхождении и развитии знания об окружающем мире в онтогенезе. В ней Ж. Пиаже сосредотачивается прежде всего на изучении качественно различных форм мышления, которые имеют схожие когнитивные структуры у всех людей и развиваются в универсальном порядке стадий (Piaget, 1947).
Данная теория оказала значительное влияние на множество областей психологического знания, включая современную социальную психологию. Например, именно на ее основе была построена одна из ведущих концепций модели психического Theory of Mind, объясняющая способности понимать и предсказывать мысли, намерения, чувства людей. Сюда же относятся первые системные исследования морали (Piaget, 1932). В этой статье мы проясним ключевые идеи в обозначенной области с опорой на актуальные научные данные, продемонстрировав таким образом актуальность и глубину рассматриваемой теории для науки.
Проблема раннего развития и происхождения знания . Начнем с того, что Ж. Пиаже, как и его ученик Л. Кольберг, отказываются от концепции нативизма (независимых от опыта врожденных ментальных структур, в том числе связанных с моралью) в построении моделей развития, но сохраняют постулат о полном неосознанном эгоцентризме у дошкольников.
Мы задаемся вопросом, как возникают первые когнитивные схемы и их аккомодация (сознательная перестройка) при отсутствии возможности у новорожденного совершать конструирующие операции с внешним миром? Ж. Пиаже сначала закрывает этот пробел врожденными сенсомоторными протосхемами (выглядят как рефлексы: сосательные, хватательные и др.), повторение которых формирует подлинную схему (Piaget, 1947). Но этим проблема не снимается, так как фактически речь идет о порождении нового знания. В более поздних работах он предлагает оригинальное решение в концепции «логики значений» (Piaget, Garcia, 1989), где действие больше не является простым механическим процессом – оно становится носителем имманентных логических структур, присущих самой реальности. Это также снимает проблему радикального конструктивизма: познание объясняется как возможное благодаря изоморфизму между структурами окружающего мира и структурами действия (Piaget, Garcia, 1989). Это, в свою очередь, затрагивало и основы социального познания, в котором координация действий с другими субъектами (объектами, наделенными собственным статусом) предполагает раскрытие действующих универсальных нормативно-логических принципов.
Современные исследования показывают, что младенцы уже способны не только выявлять и усваивать скрытые причинно-следственные связи через манипуляции с объектами (и даже учиться, наблюдая за взрослыми), но и анализировать неудачи, применять правила в ситуациях разной вероятности (Gopnik et al., 1999; Liu, Spelke, 2017; Sobel, Kirkham, 2006). Эти данные доказывают, что Ж. Пиаже недооценивал познавательные способности детей в части их сенсорного и социального эгоцентризма до 6 лет (Piaget, 1947).
На самом деле это было доказано еще Т. Бауэром (Bower, 1974), а позже А. Слейтером и В. Морисон (Slater, Morison, 1985), чьи эксперименты наглядно показали, что младенцы до года воспринимают константность формы объекта после его исчезновения из поля зрения; еще более поразительные экспериментальные результаты получили Э. Гибсон и А. Уокер (Gibson, Walker, 1984), согласно которым одномесячные младенцы оказались способными определять физические свойства объектов (например, твердость или эластичность) и переносить информацию между сенсорными модальностями (из тактильной в зрительную). Эти достоверные данные (как и многие другие, известные в области имплицитного научения (см. обсуждение В.М. Аллахвер-дова (2000))) свидетельствуют о наличии у детей более сложной, концептуальной системы мышления, благодаря которой они могут почти без усилий конструировать новые знания и использовать их в актуальном проблемном пространстве (что, как и в советской психологии (Выготский, 1982), долгое время было прерогативой более поздних, высших психических функций, возникших на базе языка в процессе социализации).
Отсюда можно сделать предположение, что познание с самого начала раскрывается в абстрактных формах мышления, обеспеченных врожденными структурами (Fodor, 1983; Pinker, 1994). Они не могут просто так возникнуть в действии, что похоже на упрощение Ж. Пиаже (на утверждения, что математические понятия выводятся напрямую из сложения двух яблок или что понимание печали другого возникает из наблюдения за поведением), однако мы согласимся с тем, что они помогают понимать важные законы физической и социальной реальности, а также организовывать ее для себя.
Экспериментальные работы (Baillargeon, 1987; Spelke, 2000) также подтверждают наличие у младенцев врожденных систем обработки информации (core knowledge systems), которые отвечают за восприятие времени, пространства, количества, социальных контактов. Кроме того, у них были выявлены и моральные предрасположенности: дети до года отличали помогающих персонажей от мешающих (Hamlin et al., 2007), дети от года поровну распределяли ресурсы в группе (Geraci, Surian, 2011), а двухлетние дети могли демонстрировать спонтанную альтруистическую помощь (Warneken, Tomasello, 2006). Интересно, что аналогичные проявления были обнаружены у крыс и шимпанзе, которые для этого преодолевали физические препятствия (Bartal et al., 2011; Spontaneous altruism…, 2007). Сюда же можно отнести убедительные факты нетерпимости к неравенству распределения ресурсов у шимпанзе, собак, птиц и даже некоторых рыб (Brosnan, Waal, 2003; Range et al., 2009; Wascher, Bugnyar, 2013), что можно объяснить общими базовыми когнитивными схемами эволюционного происхождения, лежащими в основе социального познания (конструирования себя на месте другого), которые вряд ли несут в себе конкретные нормативные правила, но логически раскрывают их в социальном взаимодействии (Hauser, 2006).
Как развиваются и работают моральные конструкты в социальных практиках . Как мы неоднократно отмечали, становление моральных структур неразрывно связано с использованием абстрактных принципов равенства и взаимности в социальных практиках (Kohlberg, 1981; Piaget, 1947). Кроме их ранних проявлений у детей и животных (что логично согласуется с данными об уникальных способностях младенцев оперировать физическими свойствами предметов), есть обширный пласт исследований, подтверждающих гипотезу о том, что моральные суждения содержат в себе представления о справедливости (Decety, Howard, 2013) и развиваются в предсказуемом порядке, несмотря на большие культурные различия (Colby, Kohlberg, 1983; Gibbs et al., 2007; Kohlberg, 1981; Snarey, 1985).
Основная заслуга в этой области принадлежит Л. Кольбергу, который разработал универсальную шестиступенчатую модель морального развития, основанную на результатах 25-летних лонгитюдных исследований (Colby, Kohlberg, 1983). Однако другие положения его теории почти целиком воспроизводят или адаптируют (в педагогике) ключевые идеи Ж. Пиаже, который в том числе первым предложил двухступенчатую модель развития (сравнительная таблица 1) и применил метод полуструктурированного интервью на материале этических дилемм для выявления устойчивых типов аргументации моральных решений (Gibbs et al., 2007). Тем не менее ввиду дефицита эмпирического материала модель Ж. Пиаже ограничивалась одним качественным переходом к автономной морали до 12 лет, тогда как именно Л. Кольберг выявил качественные различия моральных суждений в единой и необратимой (!) траектории развития в ходе всей жизни (Kohlberg, 1981).
Таблица 1 – Две модели морального развития (Ж. Пиаже/Л. Кольберг )1
Table 1 – Two Models of Moral Development (J. Piaget/L. Kohlberg)
|
Первоначальная модель Ж. Пиаже (Piaget, 1932) |
Расширенная модель морального развития Л. Кольберга (Kohlberg, 1981) |
|
|
I. Гетерономная мораль |
I. Предконвенциональный уровень (норма: 4–12 лет) |
|
|
Ребенок воспринимает моральные правила как абсолютные и неизменные установления, исходящие от внешних авторитетов (родителей, учителей или даже божественных сил, которые накажут за плохое поведение); их строго нельзя подвергать обсуждению или пересмотру |
1. Ориентация на наказание и послушание (кто сильнее, тот прав) |
Физическая сила и ее последствия определяют мораль, без учета смысла и ценности этих последствий |
|
2. Гедонизм и простой инструментальный обмен (ты мне – я тебе) |
Действия направлены на удовлетворение личных потребностей, но субъект может помогать другим (при условии выгоды) |
|
|
II. Конвенциональный уровень (норма: 12–20 лет) |
||
|
3. Межличностная и групповая комфортность (я хочу быть хорошим) |
Мораль основывается на доверии, заботе и верности в отношениях; стремление получить одобрение людей |
|
|
II. Автономная мораль Характеризуется способностью критически оценивать нормы и учитывать намерения, а не только последствия действий. На этой стадии ребенок начинает понимать, что правила создаются людьми и могут изменяться по взаимному согласию, что особенно проявляется в играх и групповых взаимодействиях со сверстниками |
4. Закон и порядок (долг гражданина – следовать законам) |
Ориентация на соблюдение законов и иерархии социальных институтов ради функционирования общества |
|
III. Постконвенциональный уровень (норма: 20+ и редко) |
||
|
5. Социальный договор и утилитарное право (законы должны быть разумными и полезными для членов общества) |
Субъект воспринимает законы как продукт общественного соглашения, требующий рационального осмысления и беспристрастных демократических процедур для легитимного улучшения |
|
|
6. Универсальные моральные принципы (я обязан поступать по совести, даже если люди меня за это осудят) |
Мораль основана на общечеловеческих этических ценностях, которые имеют принципиальный приоритет над любыми законами и социальными нормами; ради них человек готов пожертвовать всем |
|
При рассмотрении обеих моделей сразу отметим, что первые ступени морального развития требуют уточнения и являются перспективной областью исследований в свете представленных нами данных и аргументов. Впрочем, экспериментальные работы на эту тему уже проводились и они надежно зафиксировали уже у четырехлетних детей способность различать моральные нормы и условные социальные нормы (Turiel, 1983).
В рамках дальнейшего развития по самым критическим оценкам эмпирически подтверждаются первые четыре стадии в кросс-культурных исследованиях в такой же неизменной последовательности (Colby, Kohlberg, 1983). Пятая стадия в среднем встречается значительно реже, но имеет тенденцию проявления у людей с высшим образованием (юристов, философов, социальных работников) и/или ученых (Rest, 1986), а также руководителей и политиков, вовлеченных в этические проблемы, в том числе активных граждан (общественных деятелей, волонтеров и др.), отстаивающих моральные принципы. Шестая стадия практически не встречается, что побудило Л. Кольберга признать ее теоретическим идеалом, который он находил в примерах Сократа, Иисуса Христа, Ганди и др. (Kohlberg, 1981).
Таким образом, главная научная интрига данной теории заключается в ее пятой стадии морального развития (постконвенционального). Многие критики обвиняли Л. Кольберга в западном этноцентризме, основанном на индивидуалистских ценностях и философских заимствованиях (И. Кант, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Дьюи), игнорирующих другие (коллективистские) ценности и философские системы (Haidt, 2012; Krebs, Denton, 2005; Shweder, 1991). Действительно, исследования демонстрируют более выраженный переход на постконвенциональный уровень рассуждений у представителей западной культуры (хотя она всегда была неоднородной – более высокий социально- экономический статус, доступ к образованию и общественным дискуссиям могут быть более значимыми факторами) в сравнении с представителями других культур (Kohlberg, 1981; Snarey, 1985). Л. Кольберг, в свою очередь, не отрицал влияния культуры на моральное содержание суждения, однако настаивал на том, что его модель описывает естественный порядок развития форм общественного сознания, которые встречаются в самых разнообразных культурных проявлениях в самые разные периоды истории (Kohlberg, 1981).
Этот важный постулат теории дополняется еще одним его утверждением о том, что культура может замедлить переход между стадиями или ускорить его, однако она не может изменить их последовательность и траекторию развития (Kohlberg, 1981). Причем точно такое же объяснение встречается у Ж. Пиаже, только он формулировал его применительно к инвариантным
1 Составлено автором.
структурам когнитивного развития, а к не частным моральным структурам (хотя он и рассматривал их в единой связи, моральная автономия предполагала лишь деконструкцию эгоцентричного «этического реализма» и становление релятивистской этики в диалоге и сотрудничестве (Piaget, 1932), что по всем характеристикам отчетливо напоминает третью стадию модели Л. Кольберга).
По аналогии с этим родительское воспитание морали (как и любое другое навязанное извне руководство, которое не было сконструировано в виде личностного знания) чаще тормозило моральное развитие ребенка, а не способствовало ему (Kohlberg, 1981). В психологической литературе хорошо известны случаи, когда строгие условия воспитания приводили к формальному конформизму, моральному отчуждению или даже реактивному сопротивлению (Brehm, 1966; Ryan, Deci, 2000). Кроме того, лонгитюдные исследования показывают, что в семьях с высокими требованиями и низкой толерантностью к индивидуальным потребностям ребенка (в первую очередь уместно говорить о потребности в познании: выдвижении и проверке своих гипотез (пусть даже с ошибками – они ценны для когнитивного развития)) наблюдаются проблемы агрессивности, низкой самооценки и тенденции к регрессивному делинквентному поведению (The relationship between parenting…, 2009).
Общая позиция конструктивистов, выражающаяся в том, что заучивание заповедей и принуждение к социальным нормам не сделали никого моральнее, кажется психологическим трюизмом (если только человек сам не понимает смысл и последствия выполнения тех правил, на которые соглашается). Однако даже сегодня можно встретить социальные концепции, подразумевающие сходные с положениями Э. Дюркгейма (Durkheim, 1995) о роли внешнего нормативного давления и других «бихевиористских» методов формирования моральных установок (Graham et al., 2013; Haidt, 2012). Впрочем, даже если исключить способности субъекта к рефлексии и критическому анализу (которые также не могут не участвовать в создании и перестраивании конструктов), возникает вопрос: как трансформировались социальные нормы в общемировой истории?
Так, например, еще в XVIII–XIX вв. рабство считалось естественной и экономически оправданной практикой. Однако под влиянием Просвещения, религиозных движений (квакеров, аболиционистов) и публичной дискуссии (Ф. Дугласа, У. Гаррисона) оно стало аморальным. Сюда же можно отнести многочисленные примеры: переход от ордалий и судебных поединков к системе доказательного права (реформы XII–XVIII вв.); отмена пыток как законного инструмента следствия (европейские реформы XVIII–XIX вв.); постепенный отказ от смертной казни (начиная с работ Ч. Беккариа 1764 г.); гуманизация отношения к душевнобольным (реформы Ф. Пинеля 1793 г.), инвалидам и животным; получение женских прав на труд и образование и др.
В целом, несмотря на периодические колебания в мировой политике, надежные эмпирические данные позволяют говорить, что человечество стало намного гуманнее в исторической перспективе (Pinker, 2011). Эти изменения, в которых прослеживается рациональная инициатива, никогда бы не произошли сами по себе, если бы наши предки руководствовались только догмами и не пытались их анализировать, обсуждать и предлагать улучшения (иногда даже ценой жизни, свободы или репутации) (Хабермас, 2022). В то же время пассивное принятие норм и авторитетов нередко приводило к трагедиям: зло в мире чаще всего совершается не злодеями, а обычными людьми, которые следуют правилам и не задают вопросов (Arendt, 1969).
Отсюда вытекает еще одна интересная и сложная проблема, связанная с весомой долей недобросовестных лиц в истории, которые спекулировали на морали, преследуя личные интересы и оправдывая аморальные поступки. Как отличить подлинный этический дискурс от притворства? В наши дни мы видим, как искажаются либеральные ценности и идеи по всему миру, когда риторика свободы слова и прогресса используется как прикрытие для антиправовых, анти-либеральных и враждебных движений, под воздействие которых попадают молодые люди. Есть удачное выражение К. Поппера на эту тему: свобода без ответственности – это путь к новой тирании (Popper, 1945).
Тем не менее Л. Кольберг частично отвечает на этот вопрос, объясняя, что моральное суждение должно развиваться параллельно развитию рационального мышления (Kohlberg, 1981) (хотя исследования о связи этих компонентов отдельно им не проводились). Именно поэтому и невозможен регресс стадий, по его мнению, так как каждая новая стадия превосходит социальную перспективу предыдущей (путем разрешения межличностных противоречий в опыте совместной деятельности) и включает ее заведомо известную аргументацию в прогрессивное суждение (Kohlberg, 1981). Полагаем, что для решения проблемы диагностики морального сознания и проверки универсальной последовательности его развития было бы полезно изучать связь стадий с когнитивными способностями (в том числе рациональностью).
Заключение. Таким образом, конструктивистский подход в социальной психологии имеет фундаментальное значение для изучения морального сознания и его трансформации в социаль- ных практиках, однако основные теории Ж. Пиаже и Л. Кольберга в этой области требуют уточнения и развития. Перспективные направления исследований: 1) уточнение ранних стадий морального развития с учетом данных о когнитивных способностях дошкольников; 2) интеграция социокультурного контекста в анализ моральных конструктов; 3) изучение эмпирической связи моральных суждений с когнитивными способностями.