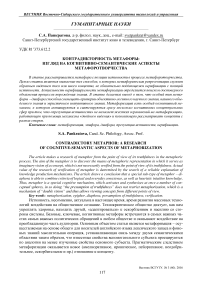Контрадикторность метафоры: взгляд на когнитивно-семантические аспекты метафоротворчества
Автор: Панкратова С.А.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 3 (60), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается метафора с позиции истинности в процессе метафоротворчества. Целью статьи является выявление тех способов, в которых метафорическая репрезентация служит образным видением того или иного концепта, не обязательно поддающемся верификации с позиций истинности. Актуальность верифицируемости метафоризации определяется поиском достоверного объяснения процессов порождения знания. В статье делается вывод о том, что особый тип метафоры - диафора способна совмещать критерии объективно-логичного научного знания, наивного обыденного знания и эвристичного интуитивного знания. Метафоризация есть особый когнитивный механизм, в котором активируются и синтезируются сразу несколько когнитивных концептуальных сфер при том, что «презумпция истинности» не налагает жестких ограничений на метафоризацию, работающую при помощи механизма «двойного видения» и позволяющую рассматривать концепты с разных сторон.
Метафоризация, эпифора, диафора, презумпция истинности, верификация
Короткий адрес: https://sciup.org/142143198
IDR: 142143198 | УДК: 81’373.612.2
Текст научной статьи Контрадикторность метафоры: взгляд на когнитивно-семантические аспекты метафоротворчества
Истинность, несомненно, актуальна в настоящее время, время развития массовых технологий воздействия на общественное сознание. Технократическое общество диктует, как нам укреплять здоровье, находить друзей, «адаптироваться» к оскорблениям и насилию со стороны системы. Базовые, ключевые, когнитивные метафоры встречаются в самых важных частях самых важных политических обращений в любом обществе и оказывают воздействие на преобладающую часть аудитории. Основным объектом статьи является метафоризация – осуществляемая на основе общего для носителей английского языка лексического запаса и фоновых знаний мыслительная операция, устанавливающая связь между двумя семантическими областями таким образом, что известные свойства вспомогательного субъекта проецируются по аналогии на менее изученные свойства основного субъекта. Прагматическим следствием метафоризации оказывается новое (амелиоративное, ироническое, пейоративное, неодобрительное, оскорбительное и пр.) отношение к концепту.
Целью статьи является попытка показать, насколько важную роль играет метафорическая истинность в современной науке, а также то, насколько наша языковая картина мира пронизана принимаемыми как данность, не всегда истинностно верифицируемыми метафорами. Зачастую самые сложные, бесконечно удаленные от обыденной жизни, часто гипотетические, постигаемые только воображением объекты получают имена бытовых реалий. Приведем ряд новых современных понятий, в именовании которых метафора играет ведущую роль: inner clock (биологические часы), biological threshold (порог зрелости), golden handshake (выплаты топ-менеджерам), mental fuzziness (умственная недостаточность), identity theft (кража личности), spiritual debt (моральный долг), psychic adolescents (психологический возраст), celebrity value (цена известности). Значительность метафоры заключается в том, что она выявляет в значении слова его «классификационные признаки», его таксономические категории и облегчает понимание. Благодаря этому свойству метафора выполняет важную познавательную, эвристическую роль. Эвристическая значимость метафоры заставляет по-новому взглянуть на это многогранное явление. Познавательно-эвристическая функция метафоризации состоит в том, что она формирует представление об объекте и предопределяет дальнейший способ и стиль мышления о нем.
Постараемся кратко очертить историческую подоплеку понимания образности. Метафора – явление многоаспектное. Для архаического мышления язык как целое представлялся совокупностью имен, непосредственно принадлежащих вещи, поэтому не было надобности относить имена к какой либо сфере, отличной от бытия вещей. Особые возражения вызывала метафора у представителей английской рационалистической школы XVIII в., видевших в языке средство выражения мысли и передачи точного значения. Метафора, относимая к ораторским приемам украшения речи, полагали рационалисты, не имеет буквального значения и не поддается верификации. Семантическая ясность и номинативная точность являются неким эволюционным идеалом состояния языка для представителей английской риторической школы рубежа XVIII-XIX вв. Отличительной чертой новой окказиональной метафоры является ее неподверженность мгновенной логической расшифровке. Результатом логической несоизмеримости обозначаемого и обозначающего, по мнению «аномалистов», являются свежесть и новизна метафоры. Еще дальше от представления о метафоре как скрытом сравнении, основанном на сходстве реалий, отходят французские сюрреалисты и их лидер А. Бретон, для которых большое значение имеет эффект, создаваемый столкновением несопоставимых предметов. Если для осмысления художественной метафоры необходимо усилие сознания, то языковая метафора воспринимается автоматически, что послужило одним из факторов, позволивших лингвистам их разграничить.
Верифицируемость метафоры имеет тесную связь с соотношением языка и сознания. Античные авторы (Аристотель) полагали, что ум способен мыслить сам себя. Он мыслим так же, как и все другое мыслимое. Дж. Локк и Р. Декарт предположили, что в основе ментальной деятельности лежит сознание, которым обладает человек, в котором он отдает себе отчет (т.е. осознает), а методом его изучения может быть философствование и интуиция. К. Вундт и Б. Титченер разработали учение об интроспекции (словесное описание внутренних переживаний), а З. Фрейд подверг его сомнению, показав, что существует «подсознательное» и «бессознательное». К. Юнг добавил сюда и «коллективное бессознательное». Таким образом, вплоть до последней четверти XIX в. изучить сознание казалось невозможным ввиду того, что нельзя «подключиться к человеческому мозгу, чтобы наблюдать процессы кодирования и извлечения информации» [18]. Психологи задавались вопросом, действительно ли индивид может иметь доступ к психическим процессам высших уровней, в особенности к процессам выработки суждений и принятия решений. Р. Нисбетт в статье «Говорим больше, чем можем знать» приходит к заключению, что «…мы не имеем свободного доступа к собственным мыслительным процессам, и потому все интроспективные сообщения бесполезны» [22, с. 23].
Поскольку естественнонаучные критерии научной объективности (наблюдение, эксперимент, измерение) сложились задолго до появления в XIX в. психологии как самостоятельной экспериментальной дисциплины, изучающей сознание (то, как человек видит, слышит, осязает, что запоминает, на что обращает внимание, как принимает решения), психология приняла их за основу. Это заставило радикально разграничить сознание и тело. Признавая вербальные средства «приблизительными» и неадекватными способами познания в отличие от прямого наблюдения, молодая психология предлагала отбросить непроверяемые «псевдопроблемы» (к примеру, существование и сущность души и духа) и изучать, насколько возможно, чувственно-образные репрезентации мира [20]. Как уже отмечалось, единственным методом изучения сознания были философствование и интуиция. Современная когнитология занимает срединную позицию. За аксиому принято положение о том, что сознание есть функция мозга и что «…лингвистические термины есть альтернативные способы ссылки на сопровождающие опыт нейронные процессы, когнитивные корреляты сознания» [16, с. 198].
Несомненным важным практическим итогом изучения ассоциирования стало выявление его количественных параметров. Было установлено, что сознание «оперирует» десятью арабскими цифрами, 26 клавишами печатной машинки и предельным количеством слов типичного английского вокабуляра (если речь идет о носителях английского языка). Было определено и время, требуемое для построения внутренних репрезентаций, 22 бита информации (около 10 операций) в секунду, что составляет примерно по 38 мс на каждый элемент. Измеримость придала ассоциированию статус формального математического алгоритма [2, 3, 13]. Компьютерная программа «переработки» информации (англ.: cognitive processing) [15] “NETMET”, основываясь на системности понятийных полей, даже смогла самостоятельно генерировать метафору «a still-born idea» [24]. В лингвистике ассоциативный эксперимент применяют в обнаружении объективно существующих в психике семантических связей слов и в изучении механизмов порождения высказывания [17, с. 25]. Вместе с тем существуют и слабые стороны ассоциативных экспериментов. Психолог Г. Олпорт привел занимательный пример человеческой изобретательности в избегании направленных экспериментов. Офицер, о котором было известно, что он неравнодушен к спиртному, мечтал поступить в разведку. Чтобы вывести его на чистую воду, ему предъявляли названия известных марок джина («Haig», «Booth», «Gordon», «Vat 69») и просили привести первые ассоциации. «Офицер хитроумно вышел из положения, заявив, что «Haig» – это генерал Первой мировой войны, «Booth» – генерал из Армии Спасения, «Gordon» – китайский генерал, а «Vat 69» – телефон Папы Римского» [6, с. 88].
Постепенно когнитологи осознали, что цельная человеческая личность с ее интуицией и воображением бесконечно выходит за узкие пределы научного мышления, а измерительные методы следует применять с осторожностью. С другой стороны, поскольку человек обладает фундаментальной способностью учитывать, компенсировать и даже выводить «за скобки» влияние внутренних переживаний, то человеку уже на чувственном уровне можно доверять [8, с. 31-40]. Таким образом, когда была осознана внутренняя неполнота психологических методов, возникла заинтересованность в гуманитарных науках. С. Прист в «Теориях сознания» выносит безжалостный приговор: «Мы не способны объяснить самих себя, используя существующие неврологические методы. Психологическая глубина несводима к физической внешней стороне, человеческие действия не являются неизбежными и потому не улавливаются детерминистской паутиной. Вся философия и психология XX в были каталогом научных попыток объяснить то, что в принципе лежит за пределами достижений науки, попытки, сравнимые со старанием вбить квадратные колышки в круглые отверстия» [11, с. 279].
Что касается методов исследования, мы придерживаемся позиции когнитивно-семантической интеграции, которая подразумевает, что в исследования мыслительных процессов помимо экспериментальных могут быть включены и лингвистически зафиксированные данные. Это такие приемы, как «…самонаблюдение, самоотчеты и словесное описание самочувствия людей, находящихся в необычных внешних условиях (к примеру, в невесомости), эстетические переживания творцов» [14]. Это означает, что мышление можно изучать и опосредованно – через «творения» разума и рук человеческих: изобретения, искусство, литературу, религиозные верования, этические системы, политические институты и т.д. Это также позволяет линг- висту в психолингвистических исследованиях апеллировать к собственной речевой деятельности» [14, с. 194]. Интегративные процессы имели два масштабных положительных следствия. Во-первых, была признана сама возможность постижения человеком собственных мыслительных процессов. Философ-позитивист Р. Карнап полагал, что то обстоятельство, что человек осознает состояние своего ума, свое воображение, чувства и т.п., вполне может рассматриваться как своего рода наблюдение, в принципе не отличающееся от любого внешнего наблюдения, а потому его можно считать таким же законным источником научного познания. Г. Гийом отмечал, что «…человеческое мышление не только способно к «самослежению», к мгновенному «перехвату» самого себя, оно просто не имеет другого (помимо языкового) способа самопознания» [12, с. 350-352]. Во-вторых, утвердилась «срединная» точка зрения на проблему соотношения мышления и языка. И хотя единогласия по вопросу соотношения мысли и языка не существует и по сей день, «поскольку ни одна из трех точек зрения (язык и мысль идентичны, язык производен и зависим от мысли, мысль зависит от языка) не может быть однозначно отвергнута» [23, с. 288], интеграция приводит к признанию взаимозависимости мышления и языка.
Итак, интеллект и язык иллюстрируют, уточняют и развивают представления друг о друге, они также позволяют поставить целый ряд новых проблем. Соотношение языка и мышления таково, что «…язык с помощью знаков фиксирует в памяти результаты мышления, а этот зафиксированный в языке мир результатов мышления образует внутреннюю реальность, по отношению к которой могут быть применены операции мышления» [5, с. 10]. Мышление и язык родственны еще и потому, что в равной мере являются дериватами практически-позна-вательной деятельности человека. Все вышесказанное заставляет нас признать, что, «…хотя стержнем устойчивой концентрации и организации представления, «песчинкой, вокруг которой растет жемчуг понятия» в психофизическом аспекте и служат нервные клетки, хранящие акустическо-моторный (или зрительный, или тактильный, или иной, неважно, вообще говоря, какой) образ десигнатора, мышление не может совершаться бесконечно долго во внеобще-ственном внеречевом вакууме, а нуждается в опоре на выраженный знак» [9, с. 112]. Обращение к категории метафоры актуально, поскольку «…метафора с ее двойственной, вербальнообразной природой являет собой наиболее «рыхлый», т.е. легко поддающийся анализу материал» [7, с. 144-146]. Обобщая, отметим, что мышление оперирует как картинно-подобными (образными), так и пропозициональными (вербальными) репрезентациями.
Обращаясь непосредственно к предмету нашего обсуждения, поясним, какие именно типы метафор наиболее приспособлены к прагматическому воздействию на личность. С точки зрения механизмов метафоризации, имеются две разновидности – это метафоры-предикаты (они предицируют, приписывают один признак другому) и метафоры-соположения (признаки неявно, в образном видении соотносятся друг с другом). Несомненно, к числу предицирующих относятся катахреза, антропонимия и эпифора. Катахреза (eye of a needle) выполняет базовую номинативную функцию, заполняя «лакуны» в словаре. Эвристически-познавательная эпифора (базисная, онтологическая метафора) открывает сущностную характеристику предмета, составляет суть теории. Словесное воплощение эпифоры – предложение или словосочетание (The public has insatiable appetite for scandal), в котором одни слова (именные, предикативные, адъективные, адвербиальные метафоры) употреблены в метафорическом значении, а остальные - в своем обычном значении. Обычно говорят о «двучленной» эпифоре, в которой компоненты образа – обозначаемое и обозначающее - представлены эксплицитно (The old woman is a fox). Несомненно, при таком эксплицитном соположении велика опасность понести наказание за оскорбление словом, так, в последнем из примеров, дама может возмутиться, аргументированно указав, что ее сравнили с лисой (естественно, в том случае, если лиса не является ее любимым животным) [10, с. 10-14].
Другим интересующим нас с позиций истинности вариантом метафоризации является образно-ситуативная диафора. Ее особенность состоит в том, что предикация признаков уступает место презентации, т.е. ситуативно-референциальному соположению нескольких дискретных образов. В диафоре реальный денотат вынесен за рамки высказывания, в силу чего диафора обладает множественной «презумпцией истинности», т.е. интерпретируется одновременно и как буквальное, и как переносное высказывание. Диафоры обладают широким диапазоном применения в художественных текстах для сокрытия намерений говорящего, в косвенных речевых актах, для создания игры слов, эффекта иронии, сарказма в пословицах, аллегориях и загадках [10]. В следующих примерах диафоры, нарушая грайсовский постулат ясности, позволяют образно высказаться о таких предметах, буквально сказать о которых было бы равносильно нанесению обиды, оскорбления. Диафоры представляют собой «…удобный способ обиняком высказать свое мнение, когда оно расходится с мнением других» [4, с. 153]. Отношение к сыну (его имя Джин), сказано в примере, разнится у матери (ее имя Алисия) и у бабушки (ее имя Харриет). В примере концептуальная метафора «CHARACTER > ELEMENT (OF NATURE)» развертывается в образную схему с помощью ряда элементов (the storm + the light + to shine + in the darkness). При этом важно, что диафора выполняет неэвристическую функцию, применяется не для формирования и раскрытия сути понятия, а, скорее, наоборот. В данном примере диафоры выполняют эмоционально-оценочную функцию, они амелиори-руют представление о сыне. Диафоры позволяют избежать прямого именования «неудачник», «неприятности». Ex: “But over Jean their ranges of tolerance, their levels of expectation were very different. No matter how serious the storm, Harriet saw a light shining in the darkness. Alycia had begun to feel that maybe Jean was the darkness.” [19, с. 283]. Игра слов, которая является одной из характеристик образно-ситуативной диафоры, демонстрируется и в нижеприведенном примере, где диафора также нарушает грайсовский принцип ясности ради «сохранения лица» того, о ком говорит. Речь идет о двух подругах – Алисии и Электре. Электра заводит роман и заставляет мужа страдать. Алисия защищает подругу и, избегая нелестных оценок, говорит, что она просто «заблудилась» (got lost) и «ищет себя» (groping). Ex: “I don’t think anything is wrong.” Alycia said. “Electra is just restless. Maybe she’s always been that way and got good at covering it up.” “She’s groping.” “Sometimes you have to get lost before you find your way, I still believe in you two as a couple,” Alycia said.” [19, с. 124].
Выводы
Итак, в примерах ясно показан механизм действия образно-ситуативной диафоры. Это такое соположение, при котором референт выносится за рамки (The old castle is disintegrating), где имеется в виду все более дряхлеющий старик. Диафора представляет собой нерасторжимое единство, «двойное видение», рождающее многообразие смыслов. Действительно, метафора всегда предлагает нам несколько претендующих на истинность «картин» мира, все зависит от нашего согласия считать ту или иную метафорическую трактовку истинной, подобно тому, как от соглашения зависит наше решение обозначать температуру кипения 80, 100 или 212 ° . По нашему глубокому убеждению, метафора как творческий мыслительный процесс может отвечать критериям как научного (объективность, логичность, системность, неопровержимость), так и обыденного (опыт поколений, наивные, обиходные представления) и интуитивного познания (внезапность, экономичность, эвристичность) [10, с. 15]. Мы уверены, что истинность метафоры не является ее первичным, необходимым качеством. Если рассматривать познание не как пассивный процесс «зеркального» отражения мира, то в нем есть место разным точкам зрения, поскольку человек активно выдвигает гипотезы, задается вопросами, экспериментирует, при этом не все знание осознается, информация о реальности изначально неполна, требует дополнения и перепроверки. Творческое познание мира при этом представляет собой заинтересованный, настойчивый процесс, который порождает целую серию концептуальных репрезентаций действительности. И лишь в последующем оказывается, что каждая новая репрезентация приближается к глубинной природе вещей.
Список литературы Контрадикторность метафоры: взгляд на когнитивно-семантические аспекты метафоротворчества
- Арлычев А.Н. Качественный аспект мира и его познание. -М.: Наука, 2001. -280 с.
- Ассоциативные системы мозга: сб. науч. тр./под ред. А.С. Батуева. -Л.: Наука, 1985. -287 с.
- Блэк М. Метафора//Теория метафоры. -М.: Прогресс, 1990. -С. 153-173.
- Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. История развития человеческого интеллекта. -Киев: Изд-во при Киевском ун-те «Вища школа», 1985. -295 с.
- Гейвин Х. Когнитивная психология. -СПб.: Питер, 2003. -272 с
- Малиновский А.А. Тектология. Теория систем. Теоретическая биология. -М.: Эдиториал УРСС, 2000. -418 с.
- Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования. -М.: Прогресс-Традиция: МПСИ: Флинта, 2005. -464 с.
- Никитин М.В. Основания когнитивной семантики. -СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2003. -277 с.
- Панкратова С.А. Когнитивно-семантические механизмы метафоризации в современном английском языке: автореф. дис.. д-ра филол. наук. -СПб., 2014. -34 с.
- Прист С. Теории сознания/пер. с англ. А.Ф. Грязнова. -М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. -288 с.
- Психолингвистика в очерках и извлечениях: хрестоматия: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений/авт-сост. В.К. Радзиховская, А.П. Кирьянов, Т.А. Пекишева и др. -М.: Изд. центр «Академия», 2003. -464 с.
- Старинец В.С., Агабабян К.Г., Недялкова З.И. Экспериментальное исследование структуры ассоциативных сетей//Моделирование в биологии и медицине. -Киев: Наукова думка, 1968. -Вып. III. -С.14-25.
- Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. -СПб.: Евразия, 2002. -532 с.
- Anderson J.B., Bower G.H. Human associative memory. -Washington, DC.: Winston, 1973. -524 p.
- Andrade J., May J. Cognitive psychology. -London and New York: Bios Scientific Publishers, 2004. -237 p.
- Anglin J.M. The growth of word meaning. -Camridge, MA: The MIT Press, 1970. -108 p.
- Cohen G. Memory: A Cognitive Approach. -Philadelphia Open University Press, 1986. -169 p.
- French M. Family money. Signet book. New American library. -New York: Penguin books, 1990. -406 p.
- Gross R. Psychology: Science of mind and behaviour. -London: Hoderr and Stoughton, 2003. -120 p.
- Holland T.H., Holyoak R.J., Nisbett R.E. et al. Induction: Processes of Inference, Learning and Discovery. -Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1986. -120 p.
- Kellogg R.T. Cognitive psychology. Second edition. -Thousand oaks, London, New Delhi: Sage Publications, 2002. -525 p.
- Steinart D., Kittay C. Interpretation of the semantic field theory of metaphor//Aspects of Metaphor/Ed. by J. Hintikka. -Dordreht, Boston, 1994. -P. 41-94.
- Szalay L.B., Maday B.C. Verbal associations in the analysis of subjective culture//Current anthropology. -1973. -Vol. 14, N 1-2. -P. 3-50.