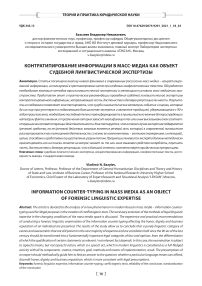Контратипирование информации в масс-медиа как объект судебной лингвистической экспертизы
Автор: Базылев Владимир Николаевич
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 1 (62), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу нового феномена в современных российских масс-медиа - конратипированной информации, используемой в противоправных целях при создании конфликтогенных текстов. Обсуждается необходимая эволюция методов юрислингвистической экспертизы в меняющихся условиях масс-медийного пространства. Представлен опыт и практические рекомендации проведения судебной лингвистической экспертизы контратипированной информации, затрагивающей честь, достоинство и деловую репутацию личности. Результаты исследования позволяют констатировать, что сугубо лингвистические категории события и оценки, которые до сих пор присутствуют в подавляющем большинстве экспертиз и являются традицией, удерживающейся с 90-х годов прошлого века, необходимо последовательно трансформировать в принципиально важные для юриспруденции категории факта и мнения, от различения которых зависит квалификация тех или иных высказываний как соответствующих/не соответствующих действительности. Констатируется, что в таком случае экспертизе подвергается (речевое) средство, но не (речевое) действие, каковым является речевой акт, который в современной лингвистике рассматривается как полноценная деятельность со всеми ее компонентами - мотивом (намерением, интенцией), целью, способами и средствами осуществления, результатом. Презумпции лингвиста-эксперта должны методически ориентировать его на поиски ответа на вопрос: может ли то или иное языковое средство оскорблять, порочить честь, достоинство и деловую репутацию, что в большей степени соответствует юридическим презумпциям.
Судебная лингвистическая экспертиза, конратипированная информация, конфликтогенные тексты, достоверность вывода, стандартизация вывода
Короткий адрес: https://sciup.org/14120028
IDR: 14120028 | УДК: 343.13 | DOI: 10.47629/2074-9201_2021_1_18_24
Текст научной статьи Контратипирование информации в масс-медиа как объект судебной лингвистической экспертизы
К онтратипирование информации в масс-медиа – это один из приемов, связанных сегодня, помимо прочего, с продвижением в глобальном пространстве Интернета сведений, порочащих честь и достоинство конкретной личности или ее деловую репутацию. Последнее, безусловно, оказывается связанным в сфере права с практикой судопроизводства. В этом случае необходимым становится обращение к лингвистической экспертизе, которая в подобных делах характеризуется повышенной сложностью. Как мы неоднократно указывали в своих публикациях, «правовая защита имеет много субъективизма и еще больше оценочных моментов. Практика защиты деловой репутации, чести и достоинства сталкивается с проблемой «слова», которое нужно истолковать, осмыслить, соотнести с ограничениями, предусмотренными действующим законодательством. При этом нужно учитывать тот непреложный факт, что за тридцать лет, прошедших с момента теоретического осмысления практики судебной лингвистической экспертизы по названной категории дел и формулирования первых практических рекомендаций», в разработке которых принимал участие автор [5], многое изменилось не только в законодательстве страны, не только в накоплении экспертами практического опыта, но также, как справедливо констатирует М. Осадчий, в функционировании глобальных масс-медиа [4, с. 5-7].
Настоящий материал посвящен обсуждению опыта проведения судебной лингвистической экспертизы контратипированной информации, затрагивающей честь, достоинство и деловую репутацию личности.
Поясним термин: контратипировать означает «изготовлять дубликат для дальнейшего размножения или создания спецэффектов». То есть, речь идет о практике дублирования (иначе, контратипирования) друг друга отдельными источниками информации, которое грозит определенными дисфункциями адресату, а именно, измененными состояниями сознания вплоть до индуцированных индивидуальных психозов.
Все дело в том, что технические возможности обеспечения процессов коммуникации в реальном времени позволяют, как мы об этом писали, исследуя феномен агрессивности современного информационного пространства, «целенаправленно воздействовать на расширение области коммуникации, используя, в частности, многократные акты повторения одной и той же информации, оформленной с языковой точки зрения в разных жанрах. В условиях глобальных информационных процессов этот прием используется для максимального усреднения интерпретации смыслов знаковых систем сообщений участниками трансляции информации» [1, с. 198 сл.].
В качестве иллюстрации к сказанному выше назовем бытование в Интернете популярного российского сайта compromat.ru с собранием различного компро- мата, руководителем которого является Сергей Горшков. Позиционируется этот сайт в качестве свободной библиотеки и существует с 1999 года. В 2010 году сайт был куплен у Горшкова компанией Neive Limited, принадлежавшей частному инвестору Андрею Рутбергу.
В основном контент сайта составляют перепечатки различной компрометирующей информации на разных видных деятелей политики, бизнеса, медиапространства со ссылкой на первоисточник.
Сегодня можно констатировать, что за двадцать лет сугубо информационный приоритет Интернета постепенно вытесняется откровенно пропагандистским, наступательным, а иногда и агрессивным подходом. Самым первым опытом стала в свое время серия так называемых «Когтей» – публикаций компромата в сети на рубеже нулевых, когда каждый новый вброс сенсационных материалов комментировался оффлайновыми средствами массовой информации. Сайт «Коготь», содержащий компромат на ряд видных российских политиков, довольно быстро исчез, однако его воздействие было достаточно эффективным. Приведем серию лингвистических иллюстраций по вторичным источникам: «на выборах губернатора Свердловской области в 2000 году команда конкурента Росселя мэра Екатеринбурга А. Чернецкого оплатила статью одной из районных газет, где предлагалось для тевтонской твердости убрать из фамилии мягкий знак; в ответ в Интернет был помещен сайт, где А. Чернецкому рекомендовалось сменить букву «р» на «г», чтобы не огорчать местных сионистов. Этот текст был распространен в местных газетах, на телевидении и радио» [6, с. 280].
Сегодня технология компромата постепенно перемещается из столицы на периферию. Местные участники предвыборных кампаний используют московские новшества с размахом. По тем же вторичным источникам можно проследить, «как в феврале 2011 года по электронной почте в редакции СМИ города Самары за полгода до выборов мэра этого города были разосланы сообщения, содержащие адреса страниц в Интернет, на которых, как оказалось, размещались так называемые аналитические записки с вариантами предвыборных сценариев. В одной из них за подписью некоего самарского политолога с целью политической раскрутки одного из вероятных кандидатов предлагалось организовать в Самаре на Пасху искусственный энергетический кризис с выключением света, остановкой метрополитена и наземного электрического транспорта. А затем поднять в областных СМИ рейтинг ликвидатора данной региональной энергетической катастрофы. Все названные на этой интернетовской странице действующие лица отвергли какую бы то ни было причастность к появлению в Сети провокационного сценария» [2, с. 131-132].
Как считает А.В. Дмитриев, «Интернет становится в первой четверти третьего тысячелетия все более эффективным инструментом неформальной политической борьбы. А в связи со снижением суммарной доли пользователей Сети Москвы и Петербурга (10% – 20%) и ростом аудитории периферийных районов, тенденция к использованию «грязных» методов и технологий в ближайшее время сохранится» [3, с. 140]. К сожалению, проблемы регулирования в этой сфере информации сегодня так же далеки от своего правового разрешения, как и двадцать лет назад. Сошлемся на пример системы СОРМ («система технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий»), которая призвана обеспечить объем информации, передаваемой и принимаемой пользователем. Рассматривая жалобы последних, Верховный Суд первоначально признал не соответствующим нормам законодательства приказ Минсвязи Российской Федерации о внедрении этого комплекса. Мотивировка Суда состояла в том, что приказ не прошел регистрацию в Минюсте. Позже спецслужбы все же зарегистрировали этот приказ и ввели в действие СОРМ. Касаемо упомянутого выше сайта (compromat. ru), единственное, что удалось Роскомнадзору, так это в 2014 году внести ряд страниц данного сайта в реестр запрещенных из-за решения Октябрьского суда Белгорода. Сайт блокировался на территории России в 2008 и 2012 году. Неоднократно подвергался атакам и был недоступным для пользователей. В апреле 2017 года снова по решению суда был ограничен доступ лишь к отдельным страницам сайта. 14 сентября 2017 года «compromat.ru» был снова заблокирован в России. При том, что сайт Comporomat.net оставался при этом доступен. До сегодняшнего дня трудно и долго добиваться решения об удалении информации из поисковиков через суд. Согласно статистике «Яндекса», после вступления в силу закона о праве на забвение в 2016-2017 годах компания удовлетворила 27% обработанных обращений. Отдельного внимания правоохранительных органов требуют сегодня к себе сайты-однодневки с компроматом разной степени правдивости — квинтэссенция индустрии fake news. В последнем случае речь идет о информационной мистификации или намеренное распространение мизинформации в социальных медиа и традиционных СМИ с целью введения в заблуждение, для того чтобы получить финансовую или политическую выгоду. Авторы поддельных новостей часто используют броские заголовки или полностью сфабрикованные истории для увеличения читательской аудитории и цитируемости. Прибыль при этом формируется аналогично принципам кликбейтинга и являет собой доход от рекламы, который генерируется независимо от достоверности опубликованных материалов. Легкий доступ к Ad-revenue, усиление политической поляризации общества и повсеместность социальных сетей обусловили распространение фальшивых новостей.
Возможности анонимного хостинга сайтов, на которых публикуются анонимные или псевдонимные авторы, затрудняют законное преследование таких источников за дезинформацию или клевету. К сожалению, правовое регулирование названного социального явления оставляет желать лучшего. Несмотря на существование пакета федеральных законов от 18 марта 2019 года о запрете фейковых новостей, т.е. публикации недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом правдивых сообщений. Законы 31-ФЗ и 30-ФЗ были подписаны президентом Владимиром Путиным 18 марта 2019 года и вступили в силу 29 марта 2019 года. Законы устанавливают лишь административную ответственность за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния (часть 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Санкции, предусматриваемые новым законом, предполагают блокировку ресурсов с фейковой информацией (сайт, аккаунт в соцсети и т.п.), а также систему штрафов в размере от 100 до 500 тыс. руб. При этом, в соответствии с нынешней практикой, для блокировки ресурса не требуется решение суда. Предписание направляется в Роскомнадзор (далее – РКН) органами прокуратуры (генеральный прокурор или его заместители), а РКН требует от редакции/вла-дельцев ресурса в течение суток удалить фейковую информацию. В противном случае ресурс блокируется. Доступ возобновляется после того, как владельцы ресурса удалят неподобающий контент, а надзорное ведомство удостоверится в этом.
На этом фоне становятся понятными все те проблемы, сложности и риски, с которым сталкивается сегодня судебная лингвистическая экспертиза. Обратимся к анализу конкретного материала. Речь пойдет о недавнем опыте автора: об обращении к экспертной организации со стороны одного из подразделений Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве о проведении лингвистического исследования, т.е. о проведении исследования по вопросам, поставленным перед экспертом физическим или юридическим лицом, являющимся стороной по делу во вне- судебном порядке. Эту сторону интересовал ответ на следующие вопросы: 1) Содержится ли в представленных материалах негативная информация о лицах А. и Б.? Если да, то в какой форме она выражена: утверждения о фактах, оценочного суждения, предположения, мнения и т.д.? 2) Содержатся ли в представленных материалах лингвистические признаки унижения А. и Б.? Если да, то выражены ли они в неприличной форме? 3) Содержат ли прилагаемые публикации или какие-либо их части лингвистические признаки речевого жанра «вымогательство»? В положительном случае указать данные публикации или их части. На исследование были представлены копии скриншотов с Интернет-сайта compromat.ru на 46 листах.
Исходя из обсужденных выше теоретических предпосылок, можно предложить серию практических рекомендаций по организации и проведению лингвистического исследования, а именно, опытный образец лингвистического исследования – языковой материал и аналитическая процедура1.
Указать прежде всего следует на то, что анализируемые тексты были размещены на Интернет-сайте compromat.ru, в подкасте «Весь сор в одной избе. Библиотека компромата». Исследование рекомендуется начинать с определения жанровой принадлежности текстов в целом. Наименование сайта в целом и подкаста в частности имеет однозначное языковое значение – собрание компрометирующего конкретного человека материала, т.е. информацию, описывающую негативные с точки зрения общественной морали, нравственности, а также с правовой точки зрения факты деятельности конкретного человека.
Тем самым, все тексты, по мнению М.С. Чаков-ской, «сознательно помещаются адресантом (автором, составителем) в охватывающий их контекст (т.н. принудительную пресуппозицию), формируя у адресата (читателя) однонаправленный вектор понимания информации: разоблачение людей, опорочивших себя в глазах общества неблаговидными поступками» [8, с. 22-23]. Информация в текстах оформлена как фактическая, т.е. соответствующая реальной действительности за счет использования следующих лингвистических средств:
-
- за счет именования источников «документами», т.е. облеченными в письменную форму носителей информации, удостоверяющих наличие фактов определенного значения:
А. <…> опубликовал служебные документы о сделке <…>, которые он похитил используя свое служебное положение …
-
- за счет ссылки на публикации журналистов:
Журналисты, опубликовавшие по его просьбе данный материал …
-
- за счет ссылки на информацию от правоохранительных органов:
Мотивом преступления правоохранительные органы считают кражу А. служебных документов из Организации «В»… У правоохранительных органов появилась информация о возможном заказном убийстве А.... По сведениям, полученным от лиц близких к следствию, заказчиком является бывший руководитель Организации «В» г-н Б.
-
- за счет прямого употребления в тексте слова «фактический», т.е. соответствующий фактам:
Фактически Б. купил за государственные деньги объекты недвижимости без документов …
-
- за счет ссылки на слова конкретного человека: …так заявил сам А.…
Предъявляемая адресату (читателю) информация исключает возможность двоякого истолкования ее смысла: информация представлена в грамматической форме повествовательного предложения, ее истинность (возможность верификации) реализуется за счет следующих лингвистических средств: именования источников информации документами, ссылки на публикации, ссылки на источники информации из правоохранительных органов, ссылки на слова конкретного человека, употребление слова «фактический». Это значит, что информация в текстах выражена в форме утверждения.
Качественная информация о личности А. и Б. в текстах выражается словами, которые в настоящий момент в современном русском языке имеют отрицательную коннотацию, т.е. дополнительные смысловые оттенки значения слова, устойчиво связанные с основным значением в сознании носителей языка, предназначенные для выражения эмоциональных или оценочных оттенков высказывания и отображения культурных и правовых традиций общества.
К ним относятся конкретные слова и словосочетания современного русского языка: шантаж, ОПГ (организованная преступная группировка), заказать убийство, получить взятку, подвести под уголовное дело (т.е. без оснований обвинять кого-либо в преступлении):
А . путем шантажа намеревался получить с В. 20 млн долларов … . Это означает, что негативно характеризуется и А. (шантажист), и В. (как человек, совершивший некий дурной поступок, который дает повод для шантажа).
Г-н Г. …через своего советника А.…создал в городе Н-ске ОПГ для решения бизнес задач, в том числе устранения деловых партнеров …
Б. заказал убийство А…. (заказчик/инициатор убийства человека в традиционной культуре оценивается негативно).
Г. и Б. получили взятку за закрытие уголовного дела против А. (получение взятки оценивается негативно и в традиционной культуре, и в сфере современного права, что по умолчанию известно адресату информации, размещенного на сайте, это фрагмент т.н. обыденного знания).
А. подвел М. под уголовное дело .
Это значит, что при упоминании в тестах А. и Б. адресант (автор, составитель) употребляет слова и словосочетания: шантаж, ОПГ, заказать убийство, получить взятку, подвести под уголовное дело , – для создания (порождения) негативной информации в форме утверждения.
Тексты содержат информацию, в которых дается негативная оценка конкретных личностей – А. и Б. – в форме констатации их неполноценности, наличия отклонений от нормы, присутствующей по умолчанию в общественном сознании. Демонстрация негативной оценки личности и неуважения носит публичный характер осуждения. Информация выражена следующими лингвистическими средствами:
-
- словами: крыса (слово из тюремного жаргона перешедшее в современный разговорный русский язык) – «человек, обворовывающий друзей или подельников»:
Б. привел в Организацию «В» крысу … (при этом негативная оценка деятельности относится в равной мере как к субъекту, так и к объекту деятельности; негативно оценивается поступок того, «кто привел», и того «кого привели»).
-
- описанием негативных действий или их последствий для других людей
А. рассказал, как по указанию своего руководителя… организовал уголовное преследование его партнера Д... Кому заносил взятки, какие силовые структуры были задействованы. В глаза бросается факт издевательства над Д… Сотрудники СИЗО г. Н-ска за деньги, которые им передавал А. заставляли Д. мыть другие камеры, сажали в карцер, инициировали издевательства других заключенных по отношению к Д., угрожали изнасилованием…
-
- характеристикой личности как «плохого отца», т.е. личности, не справившейся с одной из основных социальных обязанностей с точки зрения нормального общества (ценностной пирамиды по Маслоу):
Появилась информация, что старшая дочь А. сама заказала его убийство, пообещав расплатиться частью наследства которое она получит после смерти папы (обращает на себя внимание употребление разговорного слова «папа» вместо литературного «отец», что в данном контексте придает высказыванию издевательский (за счет сниженного стилистического регистра) характер и соотносится в общем контексте с теми текстами, которые описывают «издевательства и унижения» партнеров про биз- несу, т.е. создают одну из сквозных тем всей серии текстов об А.).
-
- описание негативного с точки зрения традиционной морали поведения в т.ч. сексуального;
-
- описание социальной деформации личности и деформации ее социального статуса (снижение социального статуса вплоть до его элиминирования за счет попыток неадекватного сексуального поведения в отношении признанных и уважаемых в обществе политических лидеров), в массовом общественном сознании это описывается как «козел отпущения».
Тексты, предъявляемые адресату (читателю), негативные оценочные характеристики личности, описание негативных действий конкретных личностей и их последствий для других людей, характеристику личности, как не справившейся с выполнением своих социальных обязанностей по отношению к обществу, и характеризующейся девиантным сексуальным поведением с точки зрения общественной морали. Это значит, что в тестах есть лингвистические признаки унижения личности А. и Б.
Все анализируемые тексты аранжированы в три жанровые группы: публицистические тексты, тесты стихотворные и комментарии.
Тексты стихотворные и тексты-комментарии являются в данном контексте вторичными (несамостоятельными) текстами.
Стихотворные тексты и тексты комментариев повторяют по языковой форме (лингвистически) и по содержанию публицистические тексты, которые являются первичными. Например:
-
- публицистический текст: А.…бизнес которого всю жизнь строился по одной схеме – нагнуть-полу-чить…
-
- стихотворный текст: Подписал он мне указ,|| чтобы нагибал я вас…
-
- комментарий: А. Знаю больше 15 лет. Хочешь заработать? А. конечно хочу. Надо предать друга за деньги. А. Без проблем.
Стихотворные тексты и комментарии в основном содержат гиперболизированную (художественно преувеличенную) информацию о девиантном сексуальном поведении личности А. и Б. Выражена информация на литературном языке. Имеющиеся дисфе-мизмы являются жанровым признаком сатирического произведения и признаком авторского идиостиля.
Таким образом, в данном случае имеет место быть т.н. конратипирование информации в Интернет-пространстве, т.е. изготовление по определенному шаблону дубликата информации с жанровым вариациями (в данном случае – публицистика, сатирическое стихотворение, комментарии) для дальнейшего размножения или создания спецэффектов, в т.ч. создания эффекта вариативности информационного пространства. Данный эффект достигается, в том числе, за счет компактного во времени размещения информации в Интернет-пространстве: тексты публицистические опубликованы в течение одного месяца, стихотворные – одной недели, комментарии – одной недели. Подобная вариативность и компактность преследует, в том числе, по мнению Д.Л. Спивака, следующую цель: «используя лингвистические средства, ввести адресата (читателя) в измененные состояния сознания» [7].
При этом, в текстах отсутствуют требования передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких. Тем самым, это означает, что в текстах нет лингвистических признаков речевого жанра «вымогательство».
В заключении следует указать на то, что сугубо лингвистические категории события и оценки, которые до сих пор присутствуют в подавляющем большинстве экспертиз и являются традицией, удерживающейся с 90-х годов прошлого века, необходимо последовательно трансформировать в принципиально важные для юриспруденции категории факта и мнения, от различения которых зависит квалификация тех или иных высказываний как соответствующих/не соответствующих действительности. Необходимость объективного экспертного анализа конфликтогенных текстов, подобных разобранным выше, обусловливает постановку вопроса о методике их исследования. Традиционно используемые в юрислингвистической экспертизе методы исследования текста применительно к конфликтогенному тексту, на наш взгляд, не всегда приводят к достоверным результатам. Принятая логика суда и экспертизы исходит из презумпций классической (структурной, системной) лингвистики, а именно результат воздействия конфликтогенного текста оценивается не по самому воздействию, а по его возможности. Презумпции лингвиста-эксперта направляют его на поиски ответа на вопрос: может ли то или иное языковое средство оскорблять, порочить честь, достоинство и деловую репутацию, и это соответствует юридическим презумпциям. По существу, в таком случае экспертизе подвергается (речевое) средство, но не (речевое) действие, каковым является речевой акт, который в современной лингвистике рассматривается как полноценная деятельность со всеми ее компонентами – мотивом (намерением, интенцией), целью, способами и средствами осуществления, результатом.
Список литературы Контратипирование информации в масс-медиа как объект судебной лингвистической экспертизы
- Базылев В.Н. Агрессивность современного информационного пространства// Человек. Культура. Образование. Научно-образовательный и методический журнал. - 2015. - № 2. - С. 198-208.
- Дмитриев А.В., Латыпов В.В., Яковлев И.Г. Политика, политология, Интернет. - М.: Современный гуманитарный университет, 2012. - 103 с.
- Дмитриев А.В., Макарова И.В. Неформальная коммуникация. Очерки теории и практики. - М.: Современный гуманитарный университет, 2013. - 167 с.
- Осадчий М.А. "Русский язык на грани права: Функционирование современного русского языка в условиях правовой регламентации речи". - М.: ЛИБРОКОМ, 2012. - 256 с.
- Понятие чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и средств массовой информации: коллективная монография/ Базылев В.Н., Бельчиков Ю.А., Леонтьев А.А., Сорокин Ю.А./под ред. А.К. Симонова, А.Р. Ратинова. - М.: Изд-во "Права человека", 1997. - 128 с.
- Скрипюк И.И. Кодирование и декодирование значения в рекламном обращении// Век информации. - 2017. - № 2. - С. 280-281.
- Спивак Д.Л. Лингвистика измененных состояний сознания. - Л.: Наука, 1986. - 92 с.
- Чаковская М.С. Текст как сообщение и воздействие. - М.: Высшая школа, 2016. - 128 с.