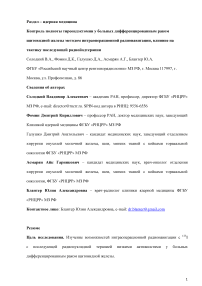Контроль полноты тиреоидэктомии у больных дифференцированным раком щитовидной железы методом интраоперационной радионавигации, влияние на тактику последующей радиойодтерапии
Автор: Солодкий В.А., Фомин Д.К., Галушко Д.А., Асмарян А.Г., Блантер Ю.А.
Журнал: Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России @vestnik-rncrr
Рубрика: Ядерная медицина
Статья в выпуске: 4 т.18, 2018 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования. Изучение возможностей интраоперационной радионавигации с 123I c последующей радионуклидной терапией низкими активностями у больных дифференцированным раком щитовидной железы. 2 Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов обследования и комбинированного лечения (радикальное оперативное и радионуклидное) 150 пациентов с дифференцированным раком щитовидной железы (129 женщин и 21 мужчина) в возрасте от 20 до 67 лет. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от использованного метода контроля полноты тиреоидэктомии: с применением интраоперационного радионуклидного метода - радиойоднавигации (основная группа) и с традиционным визуальным осмотром ложа удаленной щитовидной железы (группа контроля). В обследование всех больных входило: определение лабораторных показателей (ТТГ, ТГ, АТ-ТГ), УЗИ, сцинтиграфия с 99mТс-пертехнетатом и посттерапевтическая сцинтиграфия всего тела с 131I натрия йодидом, стимуляционный тест в сочетании со сканированием в режиме все тело с 123I через 9 -12 месяцев после лучевого лечения. Результаты. Обнаружена статистически значимая разница между выделенными группами по уровню ТТГ на четвертой неделе индукции гипотиреоза (67,9±28,5 и 82,7±29,7 мМЕ/л) (p = 0,014); по значениям стимулированного ТГ перед радиоабляцией (4,9±5,6 и 1,1±3,3 нг/мл) (р = 0,00007), что может рассматриваться как критерий для выявления пациентов, у которых при выполнении радионавигации можно отказаться от радионуклидного лечения при отсутствии других рисков прогрессирования заболевания. Изучена методика и подтверждено преимущество использования радионуклидного хирургического пособия для контроля полноты тиреоидэктомии. Заключение. Тиреоидэктомия с интраоперационной радионавигацией позволяет в ряде случаев отказаться от РЙТ в пользу динамического наблюдения. Можно существенно, в 1,5 раза, снизить терапевтическую активность 131I без ущерба для эффективности лечения и избежать повторного курса радионуклидной терапии. Длительность индукции гипотиреоза перед радиойодтерапией может быть сокращена до трех недель при условии мониторинга уровня ТТГ с 14-го дня отмены супрессивной гормонотерапии
Радиойоднавигация, интраоперационная радионавигация, дифференцированный рак щитовидной железы, тиреоидный остаток, радиойодтерапия 3 сниженными активностями, 99mтс-пертехнетат натрия, сцинтиграфия мягких тканей шеи, посттерапевтическа сцинтиграфия всего тела, офэкт-кт, гибридное исследование, планарная сцинтиграфия всего тела, тиреоглобулин, тиреотропный гормон, стимуляционный тест
Короткий адрес: https://sciup.org/149132075
IDR: 149132075
Текст научной статьи Контроль полноты тиреоидэктомии у больных дифференцированным раком щитовидной железы методом интраоперационной радионавигации, влияние на тактику последующей радиойодтерапии
В 2017 году в онкологических учреждениях Российской Федерации пациенты с раком щитовидной железы (РЩЖ) составили 4,4% от всего контингента онкологических больных [1]. Распространенность заболевания с 2007 по 2017 гг. выросла более чем в 1,5 раза с 70,4 до 109,0 случаев на 100 000 населения [1]. Во всем мире отмечается увеличение выявляемости больных с локализованными формами дифференцированного РЩЖ (ДРЩЖ) [5]. Терапия пациентов с ДРЩЖ основана на комбинированном подходе и включает оперативный, радионуклидный и гормональный этапы. Существуют противоречивые подходы к объему выполняемого лечения. Так, в настоящее время наблюдается тенденция к снижению объема комбинированного лечения: выполнение нерадикальных операций с сохранением доли ЩЖ и отказ от радиойодтерапии (РЙТ) [4]. В ретроспективных исследованиях показано, что радикальная хирургическая операция уменьшает вероятность смерти больных ДРЩЖ на 50% в отличие от гемитиреоидэктомии [6]. Применение РЙТ на втором этапе лечения позволяет создать условия для эффективного мониторинга опухолевых маркеров и, как следствие, своевременного выявления прогрессирования болезни [9].
Несмотря на выполнение операций, формально обозначенных как тиреоидэктомия (ТЭ), у большинства пациентов определяется тиреоидный остаток (ТО), что может быть обусловлено опасением травматизации возвратного гортанного нерва и паращитовидных желез при расширенной ревизии ложа ЩЖ [2, 7, 8].
Наличие функционально активного ТО создает сложности при проведении последующей РЙТ, которые обусловлены перераспределением 131I в резидуальную ткань ЩЖ и снижением захвата пораженными лимфатическими узлами (ЛУ). Кроме того, даже при использовании стандартных активностей радиойода, наличие большого ТО увеличивает вероятность развития острых лучевых реакций [3]. При этом, отсутствие ТО после радикального оперативного лечения позволяет использовать сниженные терапевтические активности 131I, достигая эффективного лечения при минимальном риске лучевых осложнений.
Таким образом, вопрос полноты удаления ткани ЩЖ на хирургическом этапе на сегодняшний день является чрезвычайно актуальным.
Цель исследования: анализ результатов применения в клинике метода радиойоднавигации (РЙН) как способа контроля полноты ТЭ с последующим применением обоснованной низкодозной радионуклидной терапии для пациентов с ДРШЖ.
Материалы и методы
В настоящем ретроспективном исследовании проанализированы результаты обследования и лечения 150 больных ДРЩЖ, проходивших лечение в клинике ядерной медицины РНЦРР с 2015 по 2017 гг. включительно. Всем пациентам выполнялась ТЭ с центральной лимфаденэктомией (ЦЛАЭ). В основной группе (n=50) контроль полноты удаления тиреоидной ткани осуществлялся с применением интраоперационной РЙН, в контрольной группе (n=100) использовался традиционный визуальный контроль полноты ТЭ. В 46 наблюдениях в контрольной группе хирургическое вмешательство было выполнено в сторонних учреждениях общего профиля. Время наблюдения в исследовании в среднем составило 18±2,3 месяца (от 12 до 72 месяцев).
В исследование были включены пациенты с распространенностью первичной опухоли не более рТ3 (TNM AJCC, 2009 г.), которым была проведена радикальная операция и радионуклидная терапия. Пациенты с признаками отдаленного метастазирования, уровнем тиреоглобулина (ТГ) более 100 нг/мл и большим активным ТО по данным предтерапевтической сцинтиграфии с 99mТс-пертехнетатом в клиническое испытание не входили.
Распределение пациентов в двух группах (n=150) составило: по полу – 129 женщин (86%) и 21 мужчина (14%), по возрасту – 50,2±13,5 лет (от 17 до 83). В 138 случаях (92%) морфологически был определен папиллярный рак, у 12 пациентов (8%) – фолликулярный рак. Распространенность первичной опухоли составила: Т1 – 44%, Т2 – 21%, Т3 – 35%; гистологически подтвержденное лимфогенное распространение отмечалось у 10% больных (n=15), его отсутствие – в 59% наблюдений (n=89). При этом 31% пациентов (46 наблюдений из группы контроля) была присвоена градация Nх вследствие недостаточного для стадирования количества удаленных ЛУ по данным послеоперационного гистологического исследования (от 2 до 5).
В основной группе (n=50) на этапе хирургического лечения применялась разработанная методика радионуклидной диагностики полноты удаления ТО – РЙН. Метод основан на включении, органификации вводимых йодидов (123I) в тироцитах и регистрации гамма-излучения нуклидов для оценки локализации и формы ЩЖ перед операцией, контроля полноты ТЭ на интра- и послеоперационном этапах. Методика выполнения включала соблюдение 7-ми дневной низкойодной диеты, внутривенное введение 17 – 37 МБк раствора 123I накануне ТЭ. Через 2 часа после введения РФП выполняли тиреосцинтиграфию и оценивали наличие эктопированных участков, аберрантных долей
ЩЖ. На следующий день выполняли радикальную операцию, в ходе которой на завершающем этапе гамма-счетчиком Neo2000 (Gamma detection system) сканировали ложе удаленной ЩЖ. При выявлении участков превышения значений фоновой активности от сосудов и мягких тканей ложа производили ревизию и элиминацию остаточной тиреоидной ткани. Через 3 – 4 часа после операции выполняли сканирование шеи на гамма-камере и оценивали остаточный захват 123I в ложе ЩЖ.
При подготовке к лечению 131I все пациенты в течение четырех недель придерживались безйодной диеты с отменой левотироксина. За 1 – 3 дня до проведения РЙТ больным определяли инициальные уровни ТГ и АТ-ТГ. Для оценки степени выраженности гипотиреоза, как предиктора успешности захвата 131I, учитывали значения ТТГ (целевые значения 30 и более мМЕ/л). Не ранее, чем через 3 недели индукции гипотиреоза выполнялась сцинтиграфия с 99mTc-пертехнетатом, по результатам которой проводился расчет показателей включения радиофармпрепарата (РФП) в ТО у каждого больного относительно накопления во всем теле в процентном отношении. Данный показатель позволял на предтерапевтическом этапе выявить функционально значимую резидуальную ткань ЩЖ.
Назначаемая активность при РЙТ варьировала от 1,5 до 4,0 ГБк и подбиралась в соответствии с группой исследования. Сниженная активность 131I у больных основной группы выбиралась с учетом предположения, что захват 131I остаточной тканью ЩЖ не будет превышать 0,2% от счета над всем телом, стандартная – при предполагаемом более интенсивном накоплении радионуклида (до 1,0%). У пациентов контрольной группы (n=100) применялись стандартные или повышенные активности в случае выявления отягощающих факторов. Продолжительность пребывания в стационаре составила от 2 до 6 суток, и всем больным проводилась профилактика острого лучевого отека путем назначения антигистаминных препаратов. На этапе выписки пациентам выполнялась пПСГ всего тела в двух проекциях, и рассчитывался показатель захвата 131I в проекции ложа ЩЖ от накопления во всем теле. При подозрительных очагах фиксации 131I на сцинтиграммах
(локализация, форма) проводилось дополнительное гибридное исследование – однофотонная эмиcсионная компьютерная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией (ОФЭКТ-КТ).
После радионуклидного лечения проводилось динамическое наблюдение, включавшее контроль уровня опухолевых маркеров каждые 3 месяца, УЗИ каждые 6 месяцев, рентгенологическое исследование ОГК, выполнение через 9 – 12 месяцев теста с эндогенной стимуляцией продукции ТТГ, дополненного планарной сцинтиграфией всего тела с 123I.
Статистический анализ проводился с помощью программы Statistica 10.0. Использовались методы описательной статистики: среднее (M), среднеквадратичное отклонение (SD), медиана (Med), межквартильный интервал (Q1Q3). Для сравнения независимых переменных использовались критерий Манна-Уитни и Хи-квадрат (χ2).
Результаты исследования и обсуждение
Рассматриваемые группы больных статистически значимо не различались по полу (женщины и мужчины: 88 и 12% в основной группе, 85 и 15% в контрольной группе, р> 0,1), возрасту (50±14,3 – в основной и – 49±15,9 лет в контрольной группах, р>0,1), распространенности первичной опухоли (T1-T2: 63% – в основной и 69% – в контрольной группах, р>0,1), вовлечению регионарных ЛУ (отсутствие лимфогенного распространения: 54% – в основной и 54,5% – в контрольной группах, р>0,1), гистологическому типу ДРЩЖ (папиллярный вариант: 97% – в основной и 93% – в контрольной группах, р>0,1). Таким образом, выделенные группы были сопоставимы по указанным показателям.
Резидуальная ткань ЩЖ при эхографии мягких тканей шеи перед радионуклидным лечением определялась только в контрольной группе (n=8; 5,3% всех наблюдений). Таким образом, в нашем исследовании УЗИ в выявлении ТО показало низкую информативность. Напротив, применение сцинтиграфии мягких тканей шеи (СМТШ) с 99mТс-пертехнетатом выявило у 56% (n=84) пациентов остаточную тиреоидную ткань, в большинстве случаев в группе контроля (n=75).
По средним показателям стимулированного ТТГ перед РЙТ группы статистически значимо различались, составив в среднем в контрольной – 67,9±28,5 мМЕ/л, в основной – 82,7±29,7 мМЕ/л (р = 0,014). Рекомендованное перед выполнением РЙТ значение ТТГ >30 мМЕ/л в группе с интраоперационной РЙН было достигнуто у всех больных (n=50). В группе контроля был выявлен уровень ТТГ <30 мМЕ/л (4%, n=4). Оптимальная концентрация ТТГ в основной группе достигалась в конце третьей недели индукции гипотиреоза, что позволяет обсуждать возможность сокращения периода подготовки к радионуклидному лечению за счет последней, наиболее трудной для пациентов недели.
Средние значения стимулированного ТГ перед РЙА статистически значимо различались в рассматриваемых группах (р = 0,00007) и составили 1,1±3,3 нг/мл в основной и 4,9±5,6 нг/мл в контрольной группах (таблица 1).
Таблица 1. Уровень ТГ в сыворотке крови перед радионуклидным лечением в контрольной и основной группах
|
Уровень стимулированного ТГ, нг/мл |
Группа контроля, n=100 |
Группа с применением радионавигации, n=50 |
|
Среднее значение |
4,9±5,6 |
1,1±3,3 |
|
менее 2 |
45% (n=45) |
86% (n=43) |
|
от 2 до 10 |
39% (n=39) |
12% (n=6) |
|
более 10 |
16% (n=16) |
2% (n=1) |
Как видно из приведенных в таблице 1 данных, отрицательные значения уровня стимулированного ТГ перед РЙА (<2 нг/мл) достигались в основной группе почти в 2 раза чаще, чем в группе контроля (р=0,01). Уровень стимулированного ТГ менее 2 нг/мл является критерием, согласно которому пациент может наблюдаться с помощью маркерного контроля и, при отсутствии других факторов риска прогрессирования заболевания, можно воздержаться от выполнения радионуклидного лечения в пользу динамического наблюдения при условии выполнения РЙН.
Концентрация ТГ более 10 нг/мл (до 27,7 нг/мл) наблюдалась у 17 пациентов. Так, у 16 больных контрольной группы уровень инициального ТГ был обусловлен функционально значимым ТО, что было показано на посттерапевтических сцинтиграммах (захват 131I составил 10,3 – 20,3% от всего тела). В одном наблюдении основной группы (2%) уровень ТГ составил 40,1 нг/мл. На посттерапевтическом этапе этому больному была выполнена ОФЭКТ-КТ, при которой выявлено 20 ненакапливающих 131I очагов в легких размерами до 8 мм. Для исключения йоднегативных метастазов через два месяца выполнена позитронноэмиссионная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией (ПЭТ-КТ), по данным которой очагов патологического метаболизма выявлено не было, а размеры очагов в легких остались прежними. На фоне приема левотироксина уровень ТГ при последнем контрольном исследовании составил 0,55 нг/мл. С целью выявления возможного прогрессирования через 6 месяцев будет выполнен стимуляционный тест, совмещенный с планарной сцинтиграфией с 123I. Вероятнее всего, такой уровень ТГ был обусловлен ранним выполнением лучевого этапа лечения и циркуляцией ТГ в крови пациента вследствие хирургического вмешательства (через 28 дней после ТЭ с радионавигацией). В целом, показатели ТГперед РЙТ в контрольной группе были выше, что, в отсутствие регионарных и отдаленных метастазов, было обусловлено большей функциональной активностью ТО.
Результатом операций с применением РЙН явилось уменьшение частоты травматизации паращитовидных желез и возвратного гортанного нерва в 2,6 раза по сравнению с группой контроля: 10% (n=5) и 26% (n=26), соответственно. По субъективной оценке хирургов, применявших интраоперационно РЙН, именно отсутствие детектируемого сигнала в ложе удаленной железы в ряде случаев останавливало их от чрезмерной ревизии.
Влияние применения методики РЙН
на всех этапах хирургического лечения
подтверждаются и данными радионуклидного этапа терапии. Качество санации ложа ЩЖ демонстрируют данные предтерапевтической сцинтиграфии с 99mТс-пертехнетатом: отсутствие накопления РФП в ложе ЩЖ в основной группе наблюдалось более чем в 3 раза чаще, чем в контрольной группе и составило 81% и 25% наблюдений, соответственно.
Захват технециевой метки в ТО средней и высокой интенсивности (0,5 – 1% от накопления во всем теле) при использовании метода РЙН отсутствовал у всех пациентов, при этом в контрольной группе был выявлен в 39% случаев.
Начальная активность 131I для пациентов группы контроля составила от 3,0 до 4,0
ГБк (Med=3,5; Q1Q3=3; 3,5): в 95% случаев применялась стандартная активность (3,0 – 3,7
ГБк), в 5% случаев активность была повышена на основании выявленных факторов неблагоприятного прогноза: прорастание капсулы ЩЖ и мультицентрический характер роста карциномы в сочетании с метастатически измененными регионарными ЛУ по данным послеоперационного гистологического исследования. Захват 131I в проекции ложа ЩЖ в контрольной группе определялся в 94% наблюдений с интенсивной гиперфиксацией РФП (более 10,1% от всего тела) у 16% больных. В этих случаях потребовался повторный курс радионуклидного лечения, активностями от 3,0 до 4,0 ГБк через 4 – 10 месяцев (в среднем через 6±3,2 месяцев). РЙА в основной группе была проведена активностями от 1,5 до 3,7 ГБк (Med=2,0; Q1Q3=2;3). Сниженная активность (от 1,5 до 2,5 ГБк) у больных с применением РЙН была назначена в 33 наблюдениях, то есть у 2/3 пациентов группы.
Накопление радиойода в проекции ложа ЩЖ на пПСГ в 46% случаев (n=23) основной группы отсутствовало. В остальных 54% наблюдений (n=27) основной группы была выявлена фиксация 131I в проекции шеи от 0,1% до 5,4% от всего тела (Med=0,35; Q1Q3=0-0,875). Всем пациентам с включением 131I было выполнено гибридное исследование, по результатам которого в 26 случаях накопление соответствовало гиперфиксации 131I в остаточной ткани, а в одном наблюдении – в ТО и нижне-яремном ЛУ. Выявленный ЛУ сохранял кортико-медуллярную дифференцировку, отсутствовали признаки его оссификации и при этом определялась высокоинтенсивное включение РФП (3% от всего тела). Сочетание результатов томографического и сцинтиграфического исследований послужило основанием для динамического наблюдения этого пациента. При выполнении стимуляционного теста и планарной сцинтиграфии с 123I захват РФП в проекции ложа ЩЖ и ранее выявленного ЛУ отсутствовал, уровни ТГ и АТ-ТГ были субнормальными и составили 0,04 нг/мл и 15,4 МЕ/мл, соответственно. Второй курс радионуклидного лечения не потребовался ни одному пациенту основной группы.
Низкие показатели ТГ на фоне качественной подготовки к лучевому этапу лечения, отсутствие детектируемого сигнала при выполнении РЙН, невизуализируемый ТО на предтерапевтической сцинтиграмме позволили снизить назначаемую терапевтическую активность 131I больным не менее чем в 2 раза. Данное обстоятельство позволило сократить время пребывания в условиях закрытого режима в среднем с трех (в контрольной группе) до двух суток (в основной группе).
Окончательно наше суждение о состоятельности как хирургического, так и радионуклидного этапов лечения, строилось на основе анализа данных посттерапевтических сцинтиграмм, по которым идеальный результат в виде отсутствия захвата 131I был достигнут в группе контроля меньше, чем у каждого 10-го больного
(6%, n=6) и, напротив, у большинства пациентов с применением интраоперационной радионавигации (52%, n=26).
С учетом полученных данных мы провели обратную реконструкцию полученной пациентами суммарной очаговой дозы в соответствии с ранее показанным фоном. Неудовлетворительный результат вследствие непрогнозируемого высокого захвата радиойода остаточной тиреоидной тканью отмечался у каждого 5-го больного контрольной группы. Подобных случаев у пациентов с интраоперационным радионавигационным контролем полноты ТЭ отмечено не было.
Выводы
-
1. Радиойоднавигация, как метод объективного контроля полноты тиреоидэктомии, позволяет в послеоперационном периоде оценивать «истинный» уровень тиреоглобулина у 86% больных ДРЩЖ, что при Т1N0M0 – Т2N0M0 и отсутствии других факторов риска прогрессирования заболевания позволяет идентифицировать пациентов, у которых можно отказаться от РЙТ в пользу динамического наблюдения.
-
2. Применение радиойоднавигации позволяет существенно, в 1,5 раза, снизить терапевтическую активность при проведении радиойодтерапии без ущерба для эффективности лечения и избежать повторного курса радионуклидной терапии.
-
3. У пациентов с радиойоднавигацией сниженные терапевтические активности 131I обеспечивают расчетное радикальное воздействие на предполагаемую остаточную опухоль. Сокращается длительность пребывания больных в условиях закрытого режима и уменьшается эффективная доза на организм больного.
-
4. Длительность индукции гипотиреоза перед радиойодтерапией у пациентов с радионавигацией может быть сокращена до трех недель при условии регулярного мониторинга уровня ТТГс 14-го дня отмены супрессивной гормонотерапии.
Список литературы Контроль полноты тиреоидэктомии у больных дифференцированным раком щитовидной железы методом интраоперационной радионавигации, влияние на тактику последующей радиойодтерапии
- Под редакцией Каприна А.Д., Старинского В.В., Петровой Г.В. Состояние онкологической помощи населению России в 2017 году. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. 2018. 236 с.
- Hesselink E.N.K., Links T.P. Radioiodine treatment and thyroid hormone suppression therapy for differentiated thyroid carcinoma: adverse effects support the trend toward less aggressive treatment for low-risk patients. Eur Thyroid J. 2015. V. 4. No. 2. P. 82-92.
- Haugen B.R., Alexander E.K., Bible K.C., et al. 2015 American Thyroid Association management guidelines for adult patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer: the American Thyroid Association guidelines task force on thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid. 2016. V. 26. No. 1. P. 1-133.
- Mazzaferri E.L., Kloos R.T. Clinical review 128: Current approaches to primary therapy for papillary and follicular thyroid cancer. J Clin Endocrinol Metab. 2001. V. 86. No. 4. P. 1447-1463.
- Verburg F.A., Aktolun C., Chiti A., et al. Why the European Association of Nuclear Medicine has declined to endorse the 2015 American Thyroid Association management guidelines for adult patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2016. V. 43. No. 6. P. 1001-1005.
- Cholewinski S P., Yoo K.S., Klieger P.S., O`Mara R.E. Absence of thyroid stunning after diagnostic whole-body scanning with 185 MBq 131I. J Nucl Med. 2000. V. 41. No. 7. P. 1198-1202.
- Selberherr A., Scheuba C., Riss P., Niederie B. Postoperative hypoparathyroidism after thyroidectomy: efficient and cost-effective diagnosis and treatment. Surgery. 2015. V. 157. No. 2. P. 349-353.
- Serpell J.W., Lee J.C., Yeung M.J., et al. Differential recurrent laryngeal nerve palsy rates after thyroidectomy. Surgery. 2014. V. 156. No. 5. P. 1157-1166.
- Clement S.C. Peeters R.P., Ronckers C.M., et al. Intermediate and long-term adverse effects of radioiodine therapy for differentiated thyroid carcinoma-a systematic review. Cancer Treat Rev. 2015. V. 41. No. 10. P. 925-934.