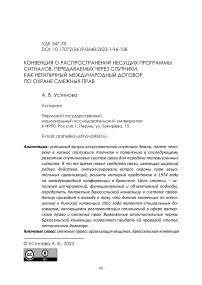Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники, как нетипичный международный договор по охране смежных прав
Автор: Устинова А. В.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Частноправовые науки
Статья в выпуске: 1, 2023 года.
Бесплатный доступ
Успешный запуск искусственного спутника Земли, полет человека в космос послужили толчком к появлению и последующему развитию спутниковых систем связи для передачи телевизионных сигналов. В то же время новые средства связи, имеющие широкий радиус действия, актуализировали вопрос охраны прав вещательных организаций, решить который предстояло в 1974 году на международной конференции в Брюсселе. Цель статьи - используя исторический, функциональный и объективный подходы, определить положение Брюссельской конвенции в системе права. Автор приходит к выводу о том, что данная конвенция по отношению к Римской конвенции 1961 года является специальным договором, касающимся регламентации отношений в сфере авторского права и смежных прав. Выявленные отличительные черты Брюссельской конвенции позволяют придать ей правовой статус нетипичного договора.
Смежные права, организация вещания, брюссельская конвенция
Короткий адрес: https://sciup.org/147239718
IDR: 147239718 | УДК: 347.78 | DOI: 10.17072/2619-0648-2023-1-96-108
Текст научной статьи Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники, как нетипичный международный договор по охране смежных прав
В современную эпоху трудно представить человека без технологий. На‐ учные разработки, успешно внедренные в практику, составляют основу жизни общества, расширяя пределы возможности людей. Вторая половина XX века ознаменовалась появлением новых средств связи во внеземном про‐ странстве. Это позволило нивелировать физические границы между государ‐ ствами, но вместе с тем вызвало ряд отрицательных последствий, одним из которых стало несанкционированное распространение сигналов. Данное об‐ стоятельство заставило государства и международные организации обратить свое внимание на сферу охраны вещания.
С развитием и расширением применения искусственных спутников Земли контроль за передачей и перехватом сигналов становился все более затруднительным, что негативно отражалось на соблюдении прав и законных
УСТИНОВА А. В. _________________________________________________________________ интересов правообладателей, чьи результаты интеллектуальной деятельно‐ сти были включены в программы, а также вещательных организаций. В этой связи на протяжении шести лет, начиная с 1968 года, на тематических меж‐ дународных площадках обсуждались проблемы законодательного регламен‐ тирования отношений, связанных с трансляцией вещательных сигналов в рамках спутниковых систем связи. Результатом проделанной работы стала принятая 21 мая 1974 года Конвенция о распространении несущих програм‐ мы сигналов, передаваемых через спутники (далее – Брюссельская конвен‐ ция, Конвенция 1974 года). Роль этого документа неоднозначна, и до на‐ стоящего времени среди ученых нет единой позиции относительно опреде‐ ления его места в системе международных договоров. Рассмотрим основные авторские точки зрения по этому вопросу.
В соответствии с первой позицией Брюссельскую конвенцию следует относить к международным договорам в сфере авторского права и смежных прав1. В зарубежной юридической литературе по обозначенному вопросу ее место также определяется среди источников смежных прав2. Противополож‐ ной позиции придерживается А. Г. Матвеев, указывая, что отсутствие в Кон‐ венции 1974 года положений об охране интеллектуальных прав и невозмож‐ ность судебного правоприменения не позволяют включать ее в систему международных договоров по охране смежных прав3. Рассматривая Брюс‐ сельскую конвенцию в рамках международных соглашений в области интел‐ лектуальной собственности, И. А. Близнец отмечает ее особый вид, нехарак‐ терность для авторского права и прав, смежных с авторским правом. Это позволяет выделить третью позицию относительно положения Конвенции 1974 года в системе международных договоров4.
Таким образом, анализ имеющихся в специальной литературе точек зрения относительно положения Брюссельской конвенции в системе между‐ народных договоров позволяет заключить, что их отличия предопределены вниманием исследователей к отдельным аспектам. Учитывая вышеизложен‐ ное, в настоящей работе представляется важным определить место Конвен‐ ции 1974 года в системе права. Данная проблема вызывает как теоретиче‐ ский, так и практический интерес. Для ее решения в рамках исторического, функционального и объективного подходов установим взаимосвязь Между‐ народной конвенции об охране прав исполнителей, производителей фоно‐ грамм и вещательных организаций от 26 октября 1961 года (далее – Римская конвенция) и Брюссельской конвенции, выделив особенности последней.
Исторический подход. Ключевую роль в разработке Брюссельской конвенции сыграли заседания трех правительственных комитетов экспертов, проходившие в Лозанне (1971), Париже (1972) и Найроби (1973). Основным вопросом этих заседаний являлось определение сферы действия будущего акта: предоставлять на международном уровне вещателям, авторам, испол‐ нителям и другим правообладателям дополнительные права или ограни‐ читься простым указанием о запрете незаконного распространения несущих программу сигналов, тем самым дав государствам‐участникам свободу в оп‐ ределении необходимых мер5. Подчеркнем, вопрос исключения анализи‐ руемого документа из сферы интеллектуального права в рамках экспертных заседаний не стоял. В отличие от Конвенции об охране интересов произво‐ дителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 года (далее – Женевская конвенция) итоговая версия текста Брюссельской конвенции существенно изменилась по сравнению с положе‐ ниями, обсуждавшимися на первом заседании комитетов экспертов в Лозан‐ не. Непримиримые разногласия среди делегаций и продолжительные дис‐ куссии привели к окончательному закреплению в тексте договора усеченных и отсылочных положений, имеющих публично‐правовой характер, вместо предоставления новых интеллектуальных прав заинтересованным лицам. Это нашло отражение в разработке найробийского проекта, представленного на рассмотрение в рамках Брюссельской конференции 1974 года. По нашему мнению, вследствие достижения компромисса в Найроби концептуальное
УСТИНОВА А. В. _________________________________________________________________ изменение подхода к содержанию Брюссельской конвенции не отразилось на первоначальной законодательной идее о том, что Брюссельская конвен‐ ция, равно как и Женевская, вписывается в систему договоров о смежных правах. Основы данной системы были заложены еще в 1961 году при приня‐ тии Римской конвенции6.
Помимо содержательного аспекта, в ходе подготовительной работы трех комитетов обсуждался также вопрос формы, в которую облекут будущий международный документ. Имелось четыре варианта: принятие новой кон‐ венции, пересмотр Римской конвенции 1961 года, пересмотр Международ‐ ной конвенции электросвязи и прилагаемого к ней Регламента радиосвязи, принятие резолюции против пиратства.
На первый взгляд рассмотрение технических вопросов по использова‐ нию спутниковых систем и защитных средств, противодействующих несанк‐ ционированным захвату и передаче сигналов, на уровне организации элек‐ тросвязи может показаться целесообразным. Это также вполне соответствует одной из целей Международного союза электросвязи (МСЭ) – согласованию действий наций для международного сотрудничества в сфере телекоммуни‐ каций, развития технических средств7. Вместе с тем, как отмечали эксперты, конвенционная форма акта «является более специфичной и лучше состав‐ ленной»8 в отличие от документов МСЭ, которые не обладают принудитель‐ ной силой к исполнению субъектами обязанностей. Безусловно, подобные аргументы имеют значение, однако не являются в полной мере убедитель‐ ными: вариант принятия технического нормативного документа вступал в противоречие с природой смежных прав, компетенцией Всемирной органи‐ зации интеллектуальной собственности, а также с тем, что необходимая за‐ щита в рамках МСЭ уже в определенной степени обеспечивалась.
Важно обратить внимание на следующее. Международная конвенция электросвязи была принята в 1973 году, то есть за год до Брюссельской. Ин‐ тересно отметить, что ее подписали более ста государств с разным уровнем экономического развития, начиная от США и Канады и заканчивая Афгани‐ станом и Эфиопией. Такое число участников, пришедших к единой позиции, не достигалось даже при принятии Римской конвенции, следовательно, трудно было бы представить нечто подобное на конференции в Брюсселе.
Поэтому для подчеркивания связи с актами МСЭ и изменения отношения к Римской конвенции со стороны делегаций в преамбуле Брюссельской кон‐ венции появилась ссылка на Международную конвенцию электросвязи и Регламенты, а в само́м тексте были использованы специальные термины из области электросвязи (сигнал, спутник, излучаемый сигнал и т.д.). Например, в приложении № 2 к Международной конвенции электросвязи используется понятие «радиовещательная служба», определяемое как служба радиосвязи, чьи передачи предназначены для прямого приема населением. Указанное определение взято за основу при конструировании статьи 3 Брюссельской конвенции, исключающей из сферы регулирования спутниковые передачи, предназначенные для непосредственного приема публикой. Учеными отме‐ чается и тот факт, что технические понятия, закрепленные в тексте Конвенции 1974 года, не употребляются в других договорах в сфере интеллектуальной собственности или используются в иных значениях9.
Что касается пересмотра Римской конвенции как еще одного варианта, рассматриваемого в качестве альтернативной формы принятия будущего ак‐ та, то нужно обратить внимание на следующее. На момент проведения кон‐ ференции в Брюсселе число государств, подписавших Римскую конвенцию, составляло всего 26, что объясняется различными причинами – от негативно‐ го восприятия ее вещательными организациями до недостаточного развития экономики государств. Очевидно, что в целях нивелирования данных момен‐ тов и изменения отношения к Римской конвенции было решено остановиться на принятии отдельного договора как средства преодоления проблемы спут‐ никового пиратства. Подчеркнем, такое оптимальное и компромиссное ре‐ шение позволяло в дальнейшем унифицировать систему международных договоров в сфере авторского права и смежных прав.
Функциональный подход. Как отмечалось выше, принятие Брюссель‐ ской конвенции соответствовало идее создания системы международных договоров, основанной на единых принципах и регулирующей отношения на международном уровне. Для этого статья 22 Римской конвенции позволяет государствам заключать специальные соглашения, которые предоставляют бенефициарам более широкие права или содержат иные не противоречащие ей положения. Заметим, что конкретная сфера регулирования будущего акта в данной статье не обозначена. Хронологически первым таким предметным соглашением стала Женевская конвенция, которую в 1971 году подписали 23 государства. Она предоставляет участникам лишь свободу в реализации мер, направленных на охрану интересов производителей фонограмм в рам‐ ках специального законодательства, законодательства об авторском праве, недобросовестной конкуренции или уголовного права10. Следующим согла‐ шением, которое изначально подписали 15 стран, является Брюссельская конвенция. Она принята в целях формирования международной системы, предотвращающей несанкционированное распространение вещательных сигналов, и охраны интересов бенефициаров. Аналогично Женевской кон‐ венции в преамбуле Брюссельской имеется ссылка на Римскую конвенцию, определяющая их соотношение и связь: «никоим образом не помешать бо‐ лее широкому применению Римской конвенции»11. И этого следует, что от‐ сутствие правонаделительных положений для правообладателей не исклю‐ чает отнесения Женевской и Брюссельской конвенций к специальным договорам по отношению к Римской конвенции.
Объективный подход. Огромное значение имеет выявление юридиче‐ ского значения положений текста Брюссельской конвенции во взаимосвязи с Римской конвенцией. Брюссельская конвенция возложила на государства обязательство принять меры для предотвращения распространения несанк‐ ционированных сигналов, несущих программы, идущих как с Земли на спут‐ ник, так и со спутника на Землю.
Статья 3 Римской конвенции определяет понятие «передача в эфир» как передачу «беспроволочными средствами звуков или изображений и звуков для приема публикой». В свою очередь, с технической стороны принцип работы систем спутникового вещания связан с трансляцией сигна‐ лов, несущих программы, с помощью внеземных спутников от земных стан‐ ций к абонентским устройствам. В соответствии с этим передача программ посредством спутниковых систем является по смыслу Римской конвенции не чем иным, как вещанием: в процессе передачи сигнала не используются проводные средства связи. Именно поэтому на конференции в Брюсселе в 1974 году эксперты говорили об отсутствии необходимости принятия новой конвенции. Интересно отметить, что, несмотря на исключение Брюссель‐ ской конвенцией из сферы регулирования спутниковой передачи сигналов для непосредственного приема публикой, данные вещательные услуги формально подпадают под регулирование названного выше нормативного положения. Кроме того, статья 13 Римской конвенции в части запрещения
________________________________ ЧАСТНОПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ ретрансляции передач в эфир теоретически позволяет принимать меры против распространения несанкционированных сигналов. Все это подчер‐ кивает: Конвенция 1974 года дополняет охрану, предоставляемую Римской конвенцией.
В литературе отмечается, что невозможность распространить положе‐ ния Римской конвенции на спутники непрямого вещания связана, с одной стороны, с их «непригодностью» для приема сигналов публикой при помощи индивидуальных приемников, а с другой – с исключением возможности ретрансляции сигналов посредством кабельных систем от наземных стан‐ ций12. В этой связи логично вновь обратиться к статье 3 Римской конвенции, анализ которой показывает, что требования о непосредственности приема сигналов публикой в ней нет. Следовательно, наличие посредника в виде фиксированной земной станции, составляющей технически неотъемлемую часть данного вида спутниковой системы, юридически не влияет на передачу сигнала между спутником и абонентом. Данная станция при поступлении сигнала может передавать его и для индивидуального, и для коллективного приема непосредственно или в записи. В противном случае аналогичное тре‐ бование к передаче сигналов как минимум в рамках системы прямого веща‐ ния необходимо предъявлять к передаче сигналов во внеземном простран‐ стве при использовании нескольких спутников, являющихся посредниками при ретрансляции одного и того же сигнала. Описанные обстоятельства по‐ зволяют прийти к заключению о том, что закрепленный в 1961 году подход к передачам сигналов при помощи беспроводных средств связи не был ситуа‐ тивным, а учитывал в перспективе появление новых технологий в вещатель‐ ной сфере.
Что касается второго аргумента относительно ретрансляции сигна‐ лов проводными средствами связи, то даже на момент принятия Брюс‐ сельской конвенции использование соединения систем спутникового и кабельного вещания распространено не было. Например, в Соединенных Штатах Америки подобную гибридную систему внедрили только в 1975 году13. В дополнение отметим, что анализируемая конвенция содержит оговорку, которая позволяет исключить или ограничить распространение вторичного сигнала по проводным системам.
Таким образом, Брюссельская конвенция является продолжением Римской конвенции по регламентации отношений в сфере авторского права и смежных прав. При этом статус специального соглашения не препятствует определению ее нетипичной правовой природы по сравнению с другими до‐ говорами в сфере интеллектуальной собственности. Для правильного пони‐ мания «нетипичности» Конвенции 1974 года вопрос о том, какими особен‐ ными чертами она обладает, имеет важное значение.
Во‐первых, как отмечено выше, идея найробийского проекта заключа‐ лась в отказе от предоставления частных прав, что повлекло за собой отсутст‐ вие положений, устанавливающих конкретные меры защиты. Это обстоя‐ тельство, а также сделанные из него выводы позволяют ученым относить Брюссельскую конвенцию к сфере международного публичного права и ис‐ ключать из международных договоров по охране смежных прав14. С данной позицией трудно согласиться в полной мере в связи со следующим. Исполняя обязательство по воспрепятствованию нелегальному распространению сиг‐ нала, государства‐участники по своему усмотрению определяют форму его реализации. Одной из форм может быть «применение специальных норм, предоставляющих конкретную защиту сигналов на основе авторских или смежных прав»15. Также установление в национальном законодательстве любых мер защиты по недопущению незаконного распространения сигналов, несущих программы, неотъемлемо связано с охраной частных прав заинте‐ ресованных лиц. Важно отметить и тот факт, что все принявшие Римскую и Брюссельскую конвенции государства, признавая права вещательных орга‐ низаций, уже предоставляют им в той или иной степени защиту в сфере част‐ ного права. В этой связи Брюссельская конвенция дополнительно ориентиру‐ ет государства на применение законодательно установленных способов защиты от несанкционированного распространения сигналов в рамках спут‐ никовой системы связи. Перечисленные обстоятельства позволяют право‐ применительным органам всех государств‐участников ссылаться на анализи‐ руемую конвенцию при обосновании решений в рамках споров между правообладателями. Наконец, о том, что Брюссельская конвенция не являет‐ ся актом международного публичного права в чистом виде, говорит и тот факт, что предложение СССР о закреплении принципов суверенитета госу‐
________________________________ ЧАСТНОПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ дарств, равенства, недискриминации и ответственности в области спутнико‐ вого вещания было отклонено.
Во‐вторых, Брюссельская конвенция исходит из сигнального подхода, содержание которого заключается в защите от актов пиратства не собственно программы, а сигнала, несущего эту программу. Подобная охрана допускает‐ ся при условии соблюдения интересов авторов и иных правообладателей, о чем имеется указание в преамбуле Конвенции 1974 года. Безусловно, сме‐ щение акцента на признание сигналов в качестве объекта охраны послужило ускоренному пресечению незаконного их распространения на мировом уров‐ не, поэтому не лишена смысла позиция о временном характере Брюссель‐ ской конвенции.
Еще одним проявлением компромисса, достигнутого в Найроби, стало включение в текст договора нетипичных для сферы частного права положе‐ ний. Прежде всего, в Конвенции 1974 года значительное внимание уделено терминам и определениям технического характера, что не в полной мере согласуется с первоочередной юридической направленностью документа. Одновременно отметим, что термин «вещание» также имеет техническую составляющую, поскольку телевидение, будучи системой связи, включает в себя последовательные процессы от «кодирования источника информации» до «демодуляции при входе и выходе физического канала»16. К сожалению, договоренность делегаций государств не включать в текст международного документа положения, по которым согласие не достигнуто, привела к ис‐ пользованию понятия вещания лишь в рамках словосочетания «организация вещания».
Еще больше вопросов вызывает придание в рамках Брюссельской кон‐ венции юридического значения предотвращению злоупотребления монопо‐ лий в сфере вещания. Ранее ни Римская конвенция, ни Женевская конвенция не включали положения антимонопольного законодательства. На неумест‐ ность статьи 7 в рамках Конвенции 1974 года указывали и многие участво‐ вавшие в конференции делегации. Например, представитель Соединенных Штатов Америки как государства, имеющего многолетний опыт применения антимонопольного законодательства, справедливо отметил, что отсутствие указанного положения не влияет на применение национального законода‐ тельства в данной сфере.
В основе аргументации включения статьи 7 о приоритете национально‐ го законодательства при борьбе со злоупотреблением монополий в текст Брюссельской конвенции, равно как и статьи 4 об исключениях, лежала не‐ обходимость защиты прав прежде всего развивающихся государств. Наибо‐ лее типичные случаи применения анализируемой статьи изложены в докла‐ де Б. Рингер17. К примеру, компетентный орган государственной власти на территории, подпадающей под его юрисдикцию, самостоятельно назначает распространяющий орган для передачи вторичных сигналов. Данное право‐ применительное решение законно при условии, что изначально орган‐ источник по каким‐либо причинам не определил субъект, который был бы уполномочен распространять на конкретной территории сигналы, несущие программы. Еще одним случаем применения национального законодатель‐ ства может явиться ситуация установления в регионе вещания монопольно высокой цены на телевизионные услуги, которая несопоставима с реальными затратами производства и передачи сигналов. Безусловно, выявление и пре‐ сечение этих и иных нарушений антимонопольного законодательства в це‐ лом соотносятся со сферой вещания, охватывающей различные аспекты. Вместе с тем очевидно, что ни сама юридическая конструкция статьи 7, по‐ зволяющая формально ее применять и к сигналу, и к передаче, ни содержа‐ ние статьи не соотносятся с целями, обозначенными в преамбуле Конвенции 1974 года по пресечению незаконного распространения вещательных сигна‐ лов. Как представляется, это связано прежде всего с тем, что в указанных выше ситуациях, иллюстрирующих применение статьи 7 Брюссельской кон‐ венции, речи о незаконности распространения сигнала на территории госу‐ дарств не идет. Кроме того, в соответствии с правилами юридической техни‐ ки положения статьи 7 целесообразнее было бы учесть при конструировании нормы, касающейся реализации мер, направленных на охрану интересов правообладателей.
Данные отличительные черты указывают на нетипичность Конвенции 1974 года. Ее принятие обусловливалось потребностью в первую очередь пресечь сигналы и одновременно не допустить дисбаланса интересов веща‐ телей и иных правообладателей. Сочетание этих двух аспектов привело к наслоению в международном акте норм разнонаправленного характера.
Таким образом, понимание, что Римская конвенция постепенно пере‐ стает быть эффективным средством регулирования отношений в сфере ав‐ торского права и смежных прав, вызвало необходимость создания механиз‐ мов, способных обеспечить соответствующую защиту, соотносимую с техно‐ логическим прогрессом. В индустрии вещания ситуация осложнялась тем, что наряду с достижением согласия среди государств и международных органи‐ заций здесь нужен учет интересов авторов произведений, исполнителей, из‐ готовителей фонограмм и иных правообладателей, чьи объекты использова‐ лись в вещательных программах. В этой связи в условиях бесконтрольного распространения пиратства сигналов была организована Брюссельская кон‐ ференция, результатом которой стала Конвенция 1974 года. Положенный в основу данного акта найробийский компромисс был настолько простым, что позволил государствам ограничиться минимальными изменениями в на‐ циональном законодательстве. Одновременно отказ от предоставления прав вещательным организациям и иным правообладателям заставил усомниться в обоснованности отнесения Брюссельской конвенции к международным договорам в сфере авторского права и смежных прав. В рамках данной ста‐ тьи на основе исторического, функционального и объективного подходов оп‐ ределено, что Конвенция 1974 года, имея нетипичную правовую природу, направлена на дополнение положений Римской конвенции и расширение ее ратификации.
В заключение отметим, что с позиции экономического анализа права Брюссельскую конвенцию можно рассмотреть, используя принцип Парето18. Исполнение государствами, ратифицировавшими эту конвенцию, бланкетно‐ го обязательства по предотвращению на национальном уровне незаконных действий благоприятным образом сказалось на положении вещательных ор‐ ганизаций в целом: были закреплены законодательные меры защиты. В то же время данное «улучшение» непосредственно не отразилось на статусе иных правообладателей и потребителей вещательных услуг.
Список литературы Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники, как нетипичный международный договор по охране смежных прав
- Карякин В. Л. Цифровое телевидение: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2013.
- Матвеев А. Г. Круг смежных прав в международном праве и национальных правовых системах // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. Вып. 38. С. 484-496.
- Матвеев А. Г. Природа и система смежных прав. Уфа: НИЦ «Аэтерна», 2020.
- Матвеев А. Г. Толкование норм о смежных правах в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. // Ex jure. 2019. № 3. С. 57-69.
- Познер Р. А. Экономический анализ права: в 2 т. / пер. с англ.; под ред. В. Л. Тамбовцева. Т. 1. СПб.: Экономическая школа, 2004.
- Право интеллектуальной собственности: в 4 т.: учеб. / под общ. ред. Л. А. Новоселовой. Т. 1: Общие положения. М.: Статут, 2017.
- Право интеллектуальной собственности: учеб. / под ред. И. А. Близнеца. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2016.
- Рожкова М. А., Афанасьев Д. В. Международные договоры в сфере интеллектуальной собственности (актуальный обзор многосторонних соглашений): учеб. пособие - сб. междунар. договоров. М.: Статут, 2017.
- Goldstein P. International Copyright: Principles, Law, and Practice. New York: Oxford University Press, 2001.
- Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms. Geneva: WIPO, 2005. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/891/wipo_pub_891.pdf.
- Ricketson S., Ginsburg Jane C. International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond. 2 ed. New York: Oxford University Press, 2006.
- Schötz G. It's Time for a New International Treaty for Broadcasters // The IP Law Review. 2019. Vol. 59, № 2. Pp. 367-453.
- Yarvis L. A. Signal Piracy: The Theft of United States Satellite Signals SATELLITE SIGNALS // Fordham International Law Journal. 1984. Vol. 8, № 1. Pp. 62-95.