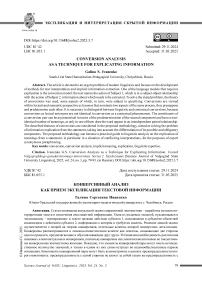Конверсивный анализ как прием экспликации текстовой информации
Автор: Иваненко Г.С.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Экспликация и интерпретация скрытой информации
Статья в выпуске: 3 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальной задаче современной лингвистики – выработке методик интерпретации текста и извлечения имплицитной информации. Одна из языковых моделей, нуждающаяся в экспликации, – конверсивная: в тексте названо действие субъекта 1, находящееся в субъектно-объектной взаимосвязи с действием субъекта 2, информацию о котором и требуется извлечь. Решение данной задачи осуществляется с опорой на теорию конверсивов, отдельные аспекты которой подверглись детализации. Конверсивы рассматриваются в лексико-семантическом аспекте как лексемы, называющие две стороны одного процесса, предполагающие и обусловливающие друг друга. Установлена необходимость различения языковых и контекстуальных конверсивов, поскольку конверсивы как лексические антонимы не тождественны конверсии как контекстному явлению. Показано, что элементы конверсивной пары могут иметь нетождественное количество значений, и только в одном из них слово вступает во взаимообусловленные парные отношения. Компоненты конверсивной пары могут быть асимметричны в аспекте предопределенности второго компонента: предопределенность с одной стороны не влечет за собой такую же предопределенность с другой. Выявленные особенности конверсивов нашли отражение в авторской методике конверсивного анализа, нацеленной на решение задачи экспликации информации, содержащейся в высказывании, с учетом дифференциации ее возможных и обязательных составляющих. Предложенная методика может стать практическим руководством при проведении лингвистического анализа с целью экспликации скрытых смыслов высказывания в ситуациях конфликта интерпретаций и экспертного синонимического перефразирования.
Конверсия, конверсивный анализ, имплицитный смысл, экспликация, лингвистическая экспертиза
Короткий адрес: https://sciup.org/149149129
IDR: 149149129 | УДК: 81’42 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2025.3.7
Текст научной статьи Конверсивный анализ как прием экспликации текстовой информации
DOI:
Накопленный языковедами опыт анализа текста с целью извлечения смыслов позволяет выявлять такие сферы лингвистики, которые еще недавно казались исключительно теоретическими, но в свете запросов развивающихся «интерпретационных» направлений филологии (когнитивной лингвистики, семиотики, лингвоэкспертологии) и ответов на эти запросы приобрели практическую значимость [Бринев, 2009; Бринев, Шпильная, 2020; Иваненко, 2018а; 2018б; Ионова, 2019]. В настоящей статье рассмотрено применение положений теоретической лингвистики о конверсивах в современной экспертной практике: имеющиеся научные представления дали обоснование практическим решениям, а анализ конфликтных контекстов и связанных с ними вопросов интерпретации текста позволил уточнить и скорректировать саму теорию.
Изучение конверсивов в отечественном языкознании началось во второй половине ХХ века. Первые упоминания термина появились в переводных текстах [Есперсен, 2017; Лайонз, 1978], а тема получила развитие в русскоязычной лингвистической литературе в 70– 80-е гг. ХХ в. [Ломтев, 1972; Степанов, 1981; Новиков, 1982; Моисеев, 1985; Апресян, 1995]. Термин конверсия приобрел многозначность: им стали обозначать и способ словообразования, при котором новая лексема образуется неморфологическим способом [Кубрякова, 1974; Роженцова, 2001], и семантические отношения между лексемами [Добричев, 1977; 2004; Новиков, 1990; Никиенко, 2003; Гильбурд, 2004; Чу-пановская, 2009], и процедуру синонимической синтаксической мены [Нелюбин, 2003].
Применительно к процедуре лингвистического, в частности экспертного, анализа текста нас интересует конверсия как лексико-семантическое явление. В этом направлении исследованию конверсии посвящен ряд работ И.Е. Ивановой (Горбуновой), представляющих в комплексе описание развития кон-версологии, исследование природы конверсии и ее функционирования [Иванова 2015а; 2015б; 2015в; Горбунова, 2022]. Ею дано определение явления: «Конверсивы в нашем понимании – это слова одного лексико-грамматического класса, занимающие позицию реляционного предиката в структуре конвертируемых предложений и выражающие значения, соотносящиеся с одним денотатом и реализующиеся в изменении направления отношений в семантической (но не в денотативной) структуре данных предложений, например иметь – принадлежать» [Иванова, 2015б, с. 126].
Опираясь на сделанные в исследовании выводы, отметим, что, поскольку оно не было нацелено на решение задачи по извлечению информации, существенные аспекты темы остались нераскрытыми. Для общего восприятия, в частности художественно-эстетического, не важна та абсолютная точность семных компонентов, которая требуется для ответа на вопрос о наличии в исследуемом тексте четкого, однозначного утверждения. Так, в приводимом в процитированной статье примере «Создатель ↔ создание: Лавров – <...> создатель первого в СССР транслятора с Алгола <...>. ↔ Первый в СССР транслятор с Алгола – создание Лаврова» [Иванова, 2015б, с. 126] для передачи общего смысла, возможно, и достаточно реализации признаков конверсивности, но для достоверной экспертной перефразировки необходима еще и симметрия обязательной конверсивной взаимной обусловленности компонентов пары вне дополнительного контекста. Предполо- жим, что Лавров главный, но не единственный создатель транслятора: у него были помощники. Предложение Лавров – создатель первого в СССР транслятора с Алгола не сообщает этого обстоятельства, но и не искажает смысл: даже если у Лаврова были коллеги или помощники, о нем можно сказать, что он создатель изобретения. Фокус описания – лицо, цель предложения – сообщить информацию о нем. Когда же субъектом – центром характеристики – становится изобретение, называние только одного из авторов – неполная информация. Если Лавров не единственный автор транслятора, этот транслятор не является созданием Лаврова. Верность конверсивной пары создание – создатель относительна.
Эту относительность следует учитывать и оговаривать при экспликации информации в экспертной практике. Приведенным примером мы преследовали цель показать, что в конвер-сологии остается множество невыясненных факторов, влияющих на использование конвер-сивной пары при экспликации информации, в частности при анализе текста в целях получения экспертного вывода.
Востребованность теории конверсивов в теории анализа текста и в лингвоэкспертоло-гии обусловлена, с одной стороны, очевидной актуальностью для практики судебных исследований процедуры семантического перефразирования [Иваненко, 2012а], с другой стороны, отсутствием конкретных методик таких семантико-грамматических трансформаций. Необходимость синонимической замены возникает в связи с потребностью эксплицировать информацию, содержащуюся в тексте, и практически всегда, в силу конфликта интересов сторон, возникает и конфликт интерпретаций: действительно ли в тексте содержится информация о гражданине Х? каков ее объем и содержание? Например, извлекается ли из предложения Террорист сообщил, что учился у Х утверждение «Террорист сообщил, что его учил Х»? В лингвоэкспертной практике мы найдем и положительный, и отрицательный ответ на вопросы, аналогичные поставленному. Анализ формы эксплицитного высказывания научно обоснованными методами предопределяет убедительность интерпретаций смыслов спорных высказываний [Иванен- ко, 2012б; 2013]. Полагаем, что представленная в статье методика конверсивного анализа может способствовать объективации процедуры экспликации смыслов высказывания, построенного по одной из речекогнитивных моделей – конверсивной.
Несмотря на то что конверсия привлекает исследователей и определенный материал, безусловно, накоплен, наблюдения сделаны и систематизация предпринята, изучение этого явления, как представляется, только начато, и возникающие в практике интерпретационных анализа, в частности при производстве лингвистической экспертизы, вопросы убедительно подтверждают это. В статье предпринята попытка зафиксировать некоторые не выявленные ранее особенности взаимоотношений в конверсивной паре и предложить вытекающую из этих особенностей методику конверсивного анализа для применения при синонимическом перефразировании, в том числе в целях экспликации информации согласно запросу в экспертной практике. При-этом конверсия рассматривается как семантическое явление, связывающее две взаимообусловленные субъектно-объектными отношениями стороны одного процесса.
Материал и методы
В статье представлены факторы и закономерности конверсивного перефразирования, значимые для интерпретации текста, особенно в лингвоэкспертологии.
На первом этапе исследования в авторской и чужой интерпретационной экспертной практике выделены ситуации синонимических экспликаций, требующие подбора максимально точных языковых средств, не искажающих смысл первичного текста. В корпусе интерпретаций выявлены случаи трансформации смысла, существенной для экспертных выводов. На втором этапе сформулированы нерешенные вопросы конверсологии, проецирующиеся на интерпретационную практику. На третьем этапе случаи экспертной конверсии были типологизированы. В рамках четвертого этапа на материале проблемных ситуаций при помощи семного анализа установлен семантический объем конвер-сивных пар. При помощи лингвистического эксперимента компоненты конверсивных пар ме- нялись местами, определялся характер их взаимозависимости. На пятом этапе сформирована методика конверсивного анализа, которую возможно применять для целей экспликации информации, в частности в лингвистической экспертизе. В ходе исследования применялись лексико-семантический, семантико-синтаксический, контекстуальный анализ.
Результаты и обсуждение
Потребность выявить информацию о лице, содержащуюся и утверждаемую в представленном тексте, в ситуации отсутствия предложений с обозначением этого лица в субъектной позиции, обусловливает поиск такого перефразирования, при котором объем информации об интересующем субъекте не будет сужен или расширен по сравнению с исходным текстом. Одним из способов такой синонимической замены является использование конверсива. При определении конверси-вов считаем более точным говорить не о едином денотате [Иванова, 2015а], а о единой ситуации, поскольку связка «денотат – сигнификат – номинация» соотносится с категорией слова, а конверсивы предполагают не один денотат, а целую ситуацию, включающую как минимум два актанта. Поэтому в качестве базового выбираем определение: «Конверсивы (лат. convertere обращать, поворачивать) – предикатные слова, обозначающие одну и ту же ситуацию, но подчеркивающие в этой ситуации разные стороны и имеющие обращенную актантную структуру: Комиссия рассматривает вопрос – Вопрос рассматривается комиссией ( рассматривать – рассматриваться – это конверсивы). Конверси-вы включают в свою актантную структуру не менее двух актантов» [Жеребило, 2012].
Природа конверсивов кроется в существовании обусловленных реалиями жизни когнитивных моделей, порождающих, в свою очередь, речемыслительные связи и закономерные парные лексические зависимости: «В отличие от синонимов и антонимов, один из конверсивов употребляется в тексте, другой остается за его пределами, но всегда подразумевается благодаря закономерной мене субъекта и объекта» [Новиков, 1990, с. 234]. Конверсивы – это лексические пары, называ- ющие действия двух сторон одного процесса. Употребление одного элемента пары, обозначающего действие или состояние одного субъекта, предполагает процесс, имеющий как минимум двух участников, и позволяет эксплицировать второй элемент, обозначающий действие или состояние второго участника: Петр купил у Ивана что-либо – Иван продал Петру что-либо; Петр обкраден Иваном – Иван обокрал Петра.
В ситуации, когда, согласно запросу, эксперт должен эксплицировать из представленного на анализ текста информацию о лице, он сталкивается с рядом трудностей, которые могут привести к ошибке, обусловленной нерешенностью в современной лингвистике вопросов: все ли слова, обозначающие ситуацию с двумя актантами, имеют конверсивы? если нет, то какие имеют, а какие нет? каковы критерии определения этих слов? В интерпретационной практике ошибочный выбор конверсива, смешение его со словообразовательной парой (также существующей в языковом сознании как модель) и экспликация одного из компонентов такой пары приводят к искусственному приписыванию тексту смыслов, не выражаемых им или выражаемых только вариативно, то есть к неверному или неточному экспертному выводу. Не претендуя на исчерпывающие ответы на обозначенные вопросы, предлагаем методику конверсивного анализа, учитывающую некоторые существенные особенности функционирования конверсивов в речи, понимание которых минимизирует интерпретационные, в том числе экспертные, ошибки в рассматриваемой речесемантической нише перефразирования при помощи конверсивов.
По нашим наблюдениям, конверсивы можно разделить на две группы, которые, по аналогии с элементами других лексических отношений (синонимами, антонимами), предлагаем именовать языковыми и контекстуальными .
Языковые конверсивы отражают ситуации, абсолютно симметрично взаимообусловленные действиями / состояниями двух сторон, что на языковом уровне проявляется в существовании конверсивных пар, семный состав которых идентичен, за исключением грамматических сем. Языковые конверсивы также делятся на группы.
Грамматические конверсивы – формы одного слова, выражающие тождественные субъектно-объектные отношения разными залоговыми формами – активными и пассивными синтаксическими конструкциями:
-
1) глаголом и однокоренным страдательным причастием:
Врач убил пациента ↔ Пациент убит врачом ;
Взятка получена судьей ↔ Судья получил взятку ;
-
2) переходным невозвратным глаголом и однокоренным возвратным:
Беспорядки готовились организаторами фестиваля ↔ Организаторы фестиваля готовили беспорядки.
Грамматические конверсивы создают иллюзию легкости подбора конверсивной пары. Однако словообразовательная пара «производящее слово – производное слово» далеко не всегда создает семантическую пару, образующую обязательно предполагающие друг друга элементы со значением действий двух сторон одного процесса.
Конверсивы лексические – контекстные антонимы, обозначающие две стороны одного процесса или двусторонних субъектнообъектных отношений:
Сорина – жена Талова ↔ Талов – муж Сориной ;
Китов победил Левина ↔ Левин проиграл Китову ;
Отец меньше матери вложил в образование дочери ↔ Мать больше отца вложила в образование дочери.
Конверсивы некоррелятивные (термин предложен нами) – слова, обозначающие отношения ( друзья , дружить , сослуживцы , товарищи , ссориться и др.), следовательно, одно и то же слово сообщает информацию не об одном человеке:
Криминальный авторитет дружит с мэром ↔ Мэр дружит с криминальным авторитетом.
Приведенные конверсивные пары с легкостью извлекаются из «языкового багажа моделей», поскольку хранятся в нем как го- товые конструкты. Однако языковое сознание может подвести интерпретатора: как пары воспринимаются не только конверсивы, но и словообразовательные пары, конверсивами не являющиеся. Конверсия в рассматриваемом аспекте – не словообразовательное и формально-языковое, а семантическое явление.
Наблюдение за конверсивами привело к выводу, значимому как для конверсологии, так и для лингвоэкспертологии. Ныне существующие подходы декларируют равенство компонентов конверсивной пары в предопределении второго компонента. Семный и контекстуальный анализ показал, что это не так. Значительная часть пар из числа различающихся возвратным постфиксом семантически асимметрична: один элемент обусловливает второй, а обратная предопределенность не является абсолютной. Например, если сказано, что кто-то (1) кого-то (2) поссорил , то из этого следует, что (2) поссорились ( поссорить – поссориться ), но в обратном направлении ( поссориться – поссорить ) конверсия не реализуется. Второй элемент пары не обязателен и не предопределен: чья-либо ссора не требует непременно участия лица, которое эту ссору спровоцировало. Такие конверсивы можно назвать неполными, и в экспертной практике необходимо оговаривать вытекающую из этой неполноты специфику экспликации.
Оба элемента конверсивной пары могут предполагать второй элемент как возможный, но не обязательный: Учитель обидел ребенка не предполагает гарантированного конвер-сива Ребенок обиделся на учителя. Равно как и Ребенок обиделся на учителя не позволяет вывести смысл: Учитель обидел ребенка. Слова-понятия обидеть – обидеться содержат субъективный компонент смысла. Употребляемое в тексте обидел может означать некое действие, воспринятое как обидное автором текста, но не объектом действия. Например, в романе Дэниела Киза «Цветы для Элджернона» умственно неполноценного молодого человека обижают, но он не понимает издевательств и принимает их за дружеское расположение. Наоборот, эксплицитное обиделся не требует как обязательной экспликации обидел, характеризующего действия со стороны второго субъекта ситуации. Такие конверсивы вне контекста пред- лагаем квалифицировать как потенциальные. Контекст может содержать конкретизаторы, позволяющие признать потенциальную конверсию либо реализованной, либо нет. Полным конверсивом к обидел будет, по-видимому, обижен: учитель обидел ученика – ученик обижен учителем. Пара представлена взглядом со стороны как передача объективного положения вещей. Если убрать из конструкции зависимое существительное в творительном падеже со значением субъекта действия (учителем): ученик обижен – доминирует субъективизм восприятия обстоятельств учеником. Приведенные эксперименты убеждают в необходимости тщательного подбора конверсивной пары при синонимическом перефразировании.
Противостоят языковым контекстуальные конверсивы. Языковые конверсивы – готовая модель, включающая два элемента и существующая в языке как мнемонический конструкт, который, как было показано в предшествующей части статьи, может реализовать или не реализовать семантическую конверсию в зависимости от того, какой элемент эксплицирован, а какой имплицирован, и от контекста. Эти конверсивы тоже основаны на модели, но такая модель заведомо является вариативной: элементы пары имеют высокий уровень самостоятельности и в языковом сознании не существуют как обязательно взаимообусловленные, поскольку обозначают реалии, не связанные такой парностью реализаций. Из контекста вытекает взаимосвязь обстоятельств или отсутствие ее. Например, глагол поселиться вне контекста самостоятелен, обозначает процесс, который не предполагает обязательного участия второго лица, а соответственно, и наличия конверси-ва: он поселился в Липецке 10 лет назад; Мы поселились у хозяйки в стареньком домике на берегу реки. Однако контекст может актуализировать способность глагола участвовать в дуальной модели поселиться ↔ поселить: Террорист поселился в Москве у родственников ↔ Родственники поселили террориста у себя в Москве. Наличие предлога у в словоформе у родственников формирует смыслы: «родственники живы», «родственники живут в Москве», «проживают на некой жилплощади, на которую и приня- ли террориста». Утверждается факт поселения, осознание же родственниками статуса поселенного как «террориста» не утверждается. Инверсия эксплицитного и имплицитного компонентов делает конверсию обязательной: если в тексте использован глагол поселили, обязательно эксплицируемым будет поселился, притом и вне контекста, то есть в одной конверсивной паре одно направление конверсии является языковым, обязательным и предопределенным (поселить – поселиться), а инверсивное ему (поселиться – поселить) – контекстуальным.
Важную роль в процедуре экспликации имплицитных смыслов играет умолчание – недостаточно пока раскрытый элемент интерпретационных процессов. Предполагаем, что в норме умолчание дает реализоваться стандартным когнитивным связям и реализующим их языковым моделям.
Например, поскольку процедура передачи взятки включает как минимум двух действующих лиц, две стороны процесса – взяткодателя и взяткополучателя, язык содержит конверсивную модель дать взятку – получить взятку . Она заложена в языковом сознании и предполагается при использовании: Иванов дал взятку Петрову – вне каких-либо пояснений предполагается, что Иванов дал взятку , а Петров ее получил ( принял ). Если пояснения отсутствуют, слово дать вообще в русском языке существует как компонент конверсивной пары дать – взять / получить :
Семье дали квартиру ↔ Семья получила квартиру ;
Я дала тебе вчера документы ↔ Ты получил от меня вчера документы.
В норме, без опровергающих факторов, дополнений и уточнений, конверсивная модель реализуется и, на наш взгляд, должна приниматься для интерпретации текста и вскрытия подтекста. Например, из фразы Именно тогда губернатору и передали документы на владение объектом недвижимости в обмен на предоставление земельного участка извлекается смысл: «губернатору передали документы на владение объектом недвижимости, губернатор получил / принял эти документы». Следующее объяснение лингвиста пред- ставляется неверным, не отражающим реальные процессы выражения смыслов языковыми средствами: «В приведенном фрагменте отсутствует информация о деятельности, действиях, поступках губернатора. Сообщается о действии иных лиц: У передал губернатору некие документы, но не сообщено, как прореагировал губернатор на такую передачу: во-первых, просил ли он или требовал такой передачи, во-вторых, как прореагировал на подарок и, в-третьих, принял ли его. Ни один из этих пунктов не отражен в тексте. Следовательно, нельзя утверждать, что в тексте сообщается о получении губернатором от У чего-либо. Негативная информация о действиях, поступках, поведении губернатора в тексте отсутствует». Автор проявил формализм, отказался от экспликации тех смыслов, которые в норме извлекаются русскоговорящим читателем из текста, так как в отсутствие оговорок реализуется типовая когнитивная модель. Поскольку обозначенная конверсивная пара передали ↔ принял, по нашей глубокой убежденности, является конструктом языкового сознания, она на практике реализуется и воплощается в понимание текста по законам актуализации невербализованного элемента конверсивной пары.
Наблюдения за языковой фиксацией фактов показывают, что, безусловно, не все детали процесса вербализуются. На этом языковом феномене базируется явление синтаксической неполноты, в частности эллиптической. Типовая когнитивная модель предопределяет сокращение предполагаемых, а потому необязательных вербализаторов. Детализация типового и предсказуемого является скорее исключением, чем правилом, и в отсутствие такой детализации в норме реализуется вариант интерпретации, воспринимаемый как типовой. Например, из высказывания Вчера Нариков ходил в гости к Бондаренко и вернулся отравленным следует, что Нариков ходил в гости к Бондаренко, то есть был у него (них), и это посещение привело его в состояние отравления: «в гостях у Бондаренко Нариков получил отравление». Можно, конечно, утверждать, что формально использован глагол ходил и неизвестно, дошел ли Нариков до Бондаренко, или, может быть, он не застал Бондаренко дома.
Однако в норме формулировка ходил к трактуется как «был у», «посетил, увидел, встретился с». Если реализуется этот традиционный смысл, пояснения не нужны, а для реализации смысла «ходил, но не застал» либо не употребляется конструкция ходил к , либо используются пояснения. Жизненный опыт свидетельствует о том, что в гостях человек, как правило, не ест в одиночку. Поскольку языковые модели отражают именно жизненный опыт, смысл приведенной фразы, связанный с Бондаренко, можно выразить при помощи конверсивного анализа так: «Нари-ков был в гостях у Бондаренко и вернулся отравленным» . Экспликация же из текста утверждения «Бондаренко отравил / отравила / отравили Нарикова» будет превышением содержания конверсивной информации. Слово отравили вступает в полные взаимообусловленные конверсивные отношения со страдательным причастием отравлен , а не с возвратным глаголом отравился , самим постфиксом констатирующим только факт физического состояния пострадавшего лица, но не факт воздействия на него, в данном случае – намеренного отравления кем-либо. Экспликация денотатов высказывания вариативна, а ее экспертное выражение не должно увеличивать или уменьшать объем выражаемых смыслов (см. таблицу).
Анализ конкретных конфликтных ситуаций позволил обозначить основную интерпре-тационую проблему, связанную с экспликацией конверсивов: смешение действительно абсолютно однозначно, при всех обстоятельствах обусловленного элементом (1) имплицитного и эксплицируемого элемента (2) пары (истинные конверсивы), и элемента (2), не предопределенного элементом пары (1) во всех типовых ситуациях, а только вариативно возможного (псевдоконверсивы). Использование псевдоконверсивов ведет к неточной экспликации и неточным, неполным, искаженным выводам.
Рассмотрим пару уговорить – согласиться . При эксплицитном А уговорил Б действительно предполагается имплицитное Б согласился на уговоры А . Действие, обозначаемое глаголом совершенного вида уговорить, достигло своего результата, а поскольку его целью было чье-либо согласие на что-
Пример экспликации возможных денотатов и экспертного описания семантического объема высказывания
An example of explication of possible denotations and an expert description of the semantic scope of an utterance
Значима для экспертной практики также языковая ситуация полиинтерпретатив-ности экспликанта, причиной которой является полисемия одного из элементов пары. Как видится на настоящем этапе разработки темы, проблемы для экспликации создает многозначность прежде всего второго, эксплицируемого элемента пары. Например, содержится ли в высказывании сообщение о том, что курьер намеренно испугал бабушку: Моя бабушка так испугалась этого курьера, что ей прямо нехорошо стало, скорую вызывали? Словообразовательная пара «возвратный глагол – невозвратный глагол» создает конверсию: Бабушка испугалась курьера ↔ Курьер испугал бабушку. Однако в значении возвратного глагола испугаться содержится указание на субъективное состояние лица без констатации внешнего воздействия, и зависимое слово, обозначающее объект или причину испуга, не снимает этого субъективизма, выражае- мого постфиксом. Интерпретатор, эксплицируя информацию о курьере при помощи конверсива: Курьер испугал бабушку, порождает конфликт смыслов: слово испугать может обозначать как ненамеренное визуальное воздействие, приведшее к испугу, так и намеренное действие по приведению в состояние испуга. Различия в интерпретациях имеют существенную проекцию на экспертные выводы и правовые последствия, поэтому в таких случаях следует пояснить, что из эксплицитного текста извлекается только информация о факте испуга и объекте, его вызвавшем. Экспликант – конверсив испугать – употребляется без дифференциации значений: информации о целенаправленных действиях курьера для приведения кого-либо в состояние испуга в первичном тексте не содержится.
Опасную зону интерпретации представляет изменение при конверсии роли, места, коннотации эксплицируемого компонента по сравнению с эксплицитным. Следующий контекст интерпретировался истцом ООО «Рыбный» как порочащий деловую репутацию: ООО «Рыбный» является арендатором этого озера. Проиграв конкурс на право аренды нескольких водоемов, представители фирмы решили обратиться в Федеральную антимонопольную службу, указав, что выигравшие конкурс конкуренты якобы предоставили неверные сведения. Пойдя на поводу у «Рыбного», антимонопольщики удовлетворили жалобу, тем самым еще больше накалив ситуацию . Доводом стороны истца, связанным с рассматриваемой в статье темой, является подбор конверсива:
«антимонопольщики пошли на поводу – значит “Рыбный” повел на поводу ». Представляется, что фразеологизм и его сконструированный конверсив, обозначая две стороны одного процесса, не тождественны по коннотации, которая в делах о защите деловой репутации является определяющим аспектом. Если со стороны «антимонопольщиков», как государственной службы, пойти на поводу – действие, возможно, и негативное, то для коммерческой организации повести на поводу (в контексте – направить в антимонопольную службу юридическую аргументацию своей позиции) – действие, пожалуй, достойное высокой оценки за профессионализм. Пример свидетельствует о нетождественности элементов конверсивной пары в реализации категории оценочности.
Учет всех перечисленных факторов позволил сформировать методику применения конверсивного анализа:
-
1. В представленном высказывании выявляется эксплицированные субъект (1) и предикат (1). Определяется наличие и характер указания на лицо (2), относительно которого необходимо эксплицировать информацию.
-
2. Устанавливается возможный конвер-сив-экспликант (2) к эксплицитному предикату (1).
-
3. Претендент на роль компонента кон-версивной пары экспликант (2) проверяется по формуле:
Лицо (1) совершает действие / находится в состоянии (1), которое предопределят действие / состояние (2) лица (2):
-
1) является ли это действие / состояние (2) лица (2) обязательным и необходимым для реализации действия / состояния (1) со стороны лица (1)?
-
2) является ли действие (2) лица (2) единственно возможным для реализации действия / состояния (1) лицом (1)?
-
4. Если эксплицируемый конверсив (2) многозначен, установить, в каком значении он участвует в конверсии или в каком значении он полный, а в каком неполный конвер-сив. Если эксплицитный компонент (1) не предопределяет значение эксплицируемого (2), отразить это обстоятельство в экспертном заключении.
-
5. Проверить направление поиска конверсии: требует ли обязательно эксплицитное (1) имплицитного и эксплицируемого (2)? В обратном направлении обусловленность отношений может быть иной: действие (2) лица (2) (экспликант) в обязательном порядке может предполагать обратное действие (1) лица (1) (эксплицитное), но действие (1) лица (1) не обязательно возможно только при условии действия (2) лица (2).
-
6. В случае установления неполной конверсии изучить контекст: содержит ли он показатели, которые позволят конкретизировать значение каждого элемента конверсивной / неконверсивной пары.
При осуществлении проверки необходимо учитывать полный семный состав понятий (1) и (2). Если (1) могло осуществляться и без (2), перед нами не конверсивы, во всяком случае, не полные конверсивы. Если (1) невозможно без (2), неразрывно и обязательно с ним связано, (1) и (2) – полные конверси-вы, и экспертная экспликация на их основе будет объективной.
Покажем возможности конверсивного анализа на близких, но не тождественных моделях: 1) Х учился у Н и 2) Х обучался у Н. Предикативные основы Х учился и Х обучался связаны с актантом Н: он назван лицом, у которого учился / обучался Х. Слова учиться и обучаться различаются одним семным компонентом: учиться – прежде всего получать знание, при этом процесс этого получения вторичен, он может осуществляться и без другого субъекта – учителя. Учиться можно и самостоятельно, беря пример с учителя, читая произведения учителя, который о существовании ученика может и не подозревать. В жизненной практике, а соответственно, в наборе речемыслительных моделей существует представление о процессе, обозначенном как учиться у кого-либо «наблюдать, брать пример, подражать». Современный актер говорит, что он учился у Чарли Чаплина, модельер – у Коко Шанель, педагог – у В.А. Су-хомлинского. Речь идет о принятии идеалов, повторении приемов, поддержании вектора деятельности. В таком значении слово учиться в сочетании учиться у кого-либо функционирует в русском языке, чему есть подтверждения в НКРЯ, которые эксперт для доказательства своей позиции может привести в эк- спертизе. В слове же обучаться на первый план выходит сема процесса обучения. Если Х обучался у Н, то совершенно однозначно Н обучал Х. Итак, обучаться и учиться – синонимы, но различие между ними заключается в семе, значимой для конверсивного анализа. Слово обучаться обозначает процесс, предполагающий второй элемент пары – обучать, а слово учиться допускает, но не требует в обязательном порядке пары учить. Притом указанная модель реализуется только при эксплицитных возвратных обучаться и учиться для экспликации имплицитных обучить и учить. При перемене мест «слагаемых» картина в свете решаемых задач трансформируется принципиально. Вербализованные в тексте учить и обучать предполагают и обязательно требуют парных участников действия: оба глагола переходные, поэтому необходимо вербализованное указание на объекты действия. Таким образом, по результатам применения конверсивного анализа высказывание Х обучался у Н эксперт может однозначно перефразировать по запросу информации об Н: Н обучал Х, а для интерпретации высказывания Х учился у Н эксперт будет вынужден обратиться ко всему контексту. Если в тексте будут присутствовать маркеры процесса обучения, возникнут основания дать ответ, тождественный предыдущему, а если нет – объективным будет ответ об отсутствии утверждения об обучающей дея-тельнсти Н. Дополнительным фактором, усиливающим трактовку «не факт, что Н учил Х», будут свидетельства известности Н, популярности его просветительской или иной деятельности. Значимость, профессионализм Н в какой-либо области усилят возможность интерпретации «учиться у Н» как «брать пример с Н».
Проиллюстрируем применение конвер-сивного анализа решением конкретного конфликта интерпретаций. Опишем ситуацию: журналист зафиксировал на видео процедуру задержания человека, подозреваемого в участии в драке со смертельным исходом, в квартире у женщины, внешний вид которой на момент съемки дает основания предполагать наличие более чем дружеских отношений с задержанным. В Сети появился репортаж, вызвавший иск героини репортажа о защите чести и достоинства. Ответим на вопрос: содержится ли в названии публикации «Прятался у любовницы и пытался сбежать за границу» и в высказываниях «Публикуем кадры захвата скрывшегося участника потасовки на челябинской квартире, где он прятался от следователей», «Третий участник смертельной драки Саид Даутов (профессиональный боец ММА) пытался спрятаться у любовницы Эллы Сак в Челябинске» негативная информация об Элле Сак, а именно о том, что она скрывала Саида Даутова, в форме утверждения о факте?
Формулировка пытался спрятаться эксплицитно называет действия Саида Даутова, а не Эллы Сак. Предложение Саид Даутов пытался спрятаться у... содержит информацию об активном действии лица, обозначенного именем собственным в функции подлежащего. Попытку спрятаться осуществил именно Саид Даутов. Глагол спрятаться является возвратным и не требует обязательного зависимого слова. Напротив, он самодостаточно существует в языковой практике и как беззалоговый. Прятаться – прятать – словообразовательная, но не семантически конверсивная пара: процесс, обозначенный возвратным глаголом прятаться, не предполагает обязательного наличия участника ситуации, который бы помогал осуществлять этот процесс. Если кто-то прячется, это обстоятельство не означает непременно, что его кто-то прячет. В глаголах прятаться и прятать важным элементом семной структуры является сема «осознанность действия по сокрытию», а сами денотаты, обозначаемые рассматриваемыми словами, таковы, что осознанное нахождение субъекта в каком-либо месте с целью скрыться не обязательно предполагает такое же осознание этой цели тем лицом, на территории которого происходит действие. Отличие пары (1) спрятаться – спрятать от (2) поселиться – поселить заключается в характере денотатов: если (2) обозначает проявленное внешне физическое действие / состояние, то (1) содержит целевой компонент значения, непроявляемый внешне. Поселившийся у кого-либо человек может иметь цель скрыться, о чем поселивший его может не подозревать. Какую роль принимала в процессе «пытался спрятаться» женщи- на, у которой участник смертельной драки находился со своими целями, в настоящем фрагменте не сообщается: была ли она осведомлена о событиях, в связи с которыми Саид Даутов скрывался от правосудия, или не была? Принимала ли Саида Даутова на своей территории именно с целью его сокрытия от правосудия или же по другим причинам? Информация, позволяющая ответить на эти вопросы, отсутствует. Извлечение из текста информации «он скрывался у нее – значит, она скрывала его» является ошибочным применением конверсивного анализа (нахождением псевдо-конверсивов, в действительности являющихся словообразовательной парой), что на уровне экспликации информации приводит к утверждению в качестве обязательной только возможной извлекаемой информации.
Интерпретационные, в частности экспертные, выводы (их конкретная вербализация) зависят от характера поставленных перед лингвистом задач. Ответ, который мы получаем, применяя конверсивный анализ, во многих случаях является сложным, то есть он состоит минимум из двух позиций: (1) смысл Х возможен / невозможен; (2) смысл Х является / не является обязательным. Позиции (1) и (2) не противоречат друг другу, а дополняют и корректируют друг друга. В зависимости от заданного вопроса будет дан либо один из двух ответов, либо оба в комплексе. Задача эксперта-интерпретатора – различить содержание запроса и адекватно на него отреагировать.
Так, если стоит задача извлечь смысл из высказывания лица для получения информации с вероятностным проявлением (в ходе следствия, например, для последующей проверки), то ответ будет один, а если с целью определения наличия утверждения, то другой. Упоминаемая в статье формулировка Террорист сказал, что учился у Х допускает вариант интерпретации «Х учил террориста», и как рабочую версию эту экспликацию можно учитывать и соотносить с другими лингвистическими и экстралингвистическими факторами. Именно как вариант, а не однозначное утверждение, поскольку применение конвер-сивного анализа позволяет заключить, что учить – учиться не являются конверсивами: глагол учиться не требует обязательного парного глагола учить. Будет неверным по ре- зультатам экспертизы сделать вывод, что в приведенном высказывании содержится утверждение о том, что Х учил террориста. Информация о роли Х как лица, осуществляющего обучение террориста, – необязательный экспликант из текста, а следовательно, она не должна быть представлена как утверждаемый в анализируемом тексте смысл, что значимо при ответах на вопросы, требующие выявления утверждений. Приведенный пример преследовал цель продемонстрировать различие экспертных ответов в зависимости от содержания запроса – различие, обусловленное дифференциацией возможной (вариативной) и утверждаемой эксплицируемой информации.
Выводы
-
1. Конверсивный анализ текста – извлечение имплицитной информации на основе экспликации конверсивной пары, один компонент которой назван, а второй восстанавливается как элемент существующей в языковом сознании модели.
-
2. По итогам проведенного в лингвоэкспертном аспекте исследования конверсивов предложена методика конверсивного анализа как разновидность метода синонимического перефразирования в целях экспликации информации. Конверсивный анализ требует установления границ конверсии:
– дифференциации конверсивов и псев-доконверсивов;
– определения конверсивного значения;
– определение роли конверсива в контексте.
-
3. В аспекте разработки конверсологии существенными стали следующие выводы: конверсивы как лексические антонимы не тождественны конверсии как контекстному явлению, иными словами, следует различать кон-версивы языковые и контекстуальные; элементы конверсивной пары могут иметь нетождественное количество значений, и только в одном из них слово выступает во взаимообусловленные парные отношения; компоненты конверсивной пары могут быть асимметричны в аспекте предопределенности второго компонента (предопределенность с одной стороны не означает такой же предопределенности с другой).