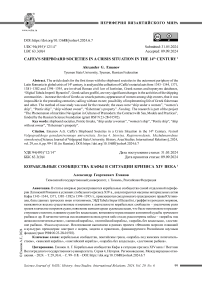Корабельные сообщества Кафы в ситуации кризиса XIV века
Автор: Еманов А.Г.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Периферия Византийского мира. Проблемы истории и культуры
Статья в выпуске: 6 т.29, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые рассматриваются корабельные сообщества самой отдаленной периферии Латинской Романии в условиях глобального кризиса XIV в., анализируются массивы нотариальных актов Кафы 1343-1344, 1371, 1381-1382 и 1394-1395 гг., привлекаются свод римского гражданского права Юстиниана, базы данных греческих имен и топонимов, ЭБД Tabula Imperii Byzantini, граффити греческих моряков, выявляются весьма существенные изменения в деятельности корабельных сообществ - увеличение роли греков в качестве патронов судов; появление женщин среди судовладельцев, что было невозможно в предшествующие столетия; плавание судов без владельцев; возможности реализации жизненной судьбы греческого рыбака и др. В качестве метода исследования используется кейс стади; рассмотрены кейсы - «корабль под женским попечительством», «женский корабль», «понтийский корабль», «корабль без владельца», «достояние рыбака».
Корабельные сообщества, понтийские греки, «корабль под женским попечительством», «женский корабль», «понтийский корабль», «корабль без владельца», «достояние рыбака»
Короткий адрес: https://sciup.org/149147555
IDR: 149147555 | УДК: 94(495)“12/14” | DOI: 10.15688/jvolsu4.2024.6.7
Текст научной статьи Корабельные сообщества Кафы в ситуации кризиса XIV века
DOI:
Цитирование. Еманов А. Г. Корабельные сообщества Кафы в ситуации кризиса XIV века // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2024. – Т. 29, № 6. – С. 99–118. – DOI:
Введение. Проблема корабельных сообществ в Средние века только в самое последнее время стала привлекать внимание исследователей [46, p. 43–44]. Таковые складывались на борту морских судов, непрерывно курсировавших от одного порта к другому, лишь на короткое зимнее время замиравших в своем неостановимом борении с морской стихией. Они включали в себя не только судовые команды (sciurme), уже рассмотренные в медиевистике [48, p. 95–112], но и всех тех людей, кто оказался на борту, – торговых агентов, экспедиторов, курьеров, паломников и просто пассажиров, поскольку объединявшим их началом был общий ритм жизни судна, вовлеченность в общие усилия по спасению морского транспорта в критической ситуации. Изучение таких сообществ принципиально важно для понимания особой природы групповой солидарности людей морской стихии, их естественной предрасположенности, с одной стороны, к демократическим принципам, а с другой – к предводительству яркого лидера, капитана, ведающего тайны движения морских вод, воздушных потоков и небесных светил, их привязанности к традиции, многовековому опыту и наследию предшествовавших поколений мореходов и одновременно редкой открытости новому. Люди морской стихии слишком отличались от обитателей земной тверди. Уже самой походкой вразвалку, выработанной для уравновешивания постоянной качки судна, брюками из непромокаемой парусины 2 они сразу выделялись среди обычных людей. Море налагало неизгладимую печать на облик моряка. Ему были ведомы невыразимые красоты, крепкие напитки и острые яства, самобытные бани и публичные дома крупнейших портовых городов трех континентов Старого Света; он не раз оказывался на грани жизни и смерти и посему обладал уникальной способностью принимать нетривиальные решения, спасительные для всей команды.
Корабельные сообщества в силу своей космополитичности оказались наиболее динамичными не только в пространственном плане, но и социальном. Они легко изменялись в ситуации глобальных катаклизмов, которые поразили Старый свет с середины XIV века. Среди них надлежит выделить и тектоничес- кий разлом между плитами, на которых размещались континенты Европа, Азия и Африка, сопровождавшийся землетрясениями и извержениями вулканов [41]; и начавшееся похолодание, напоминавшее Ледниковый период [73]; и деградацию теплолюбивой флоры и фауны [24]; и демографическую катастрофу, вызванную Великой пандемией, «черной смертью», чумной бактерией “Yersinia pestis” [59]; и ухудшение экономической конъюнктуры в международном обмене, особенно между Западом и Востоком [6]; и нарастание социальных антагонизмов между богатыми и бедными; и развертывание политических конфликтов, самыми заметными из каковых стали войны между Византией и Генуэзской республикой, между новыми талассократиями Венеции и Генуи [13]; между республиками Сан-Джорджо и Сан-Марко, с одной стороны, и Золотой Ордой – с другой [8, p. 89–172]. Проблема кризиса вызывает острые дискуссии. Тенденции демографического спада наметились на Западе еще в первые десятилетия XIV в., но торговля в 1320–1330-е гг. в Восточном Средиземноморье еще сохраняла поступательные тренды; по убедительным доводам С.П. Карпова, академика РАН, заведующего кафедрой истории Средних веков МГУ, в Причерноморье не было признаков спада еще в начале 1340-х годов. Волна депрессии шла с Востока на Запад, но в 1360-е гг. стала идти с Запада на Восток [6].
Как раз активная реакция корабельных сообществ на внешние кризисные вызовы и приобретает особую актуальность в предпринимаемом исследовании. Невыявленность таковых в предшествующей историографии и не позволяла выйти на новый уровень решения глубоких проблем не только выживаемости, но и поступательного развития общества в условиях глобального кризиса. Поэтому даже в самых лучших работах предшественников, в частности, Герассимоса Пагратиса [52], профессора департамента итальянского языка и литературы Афинского университета им. Иоанниса Каподистрия, развивались идеи абсолютной монополии итальянских судовладельцев на дальние плавания в Средиземноморье и ограниченности греческого судовладельческого предпринимательства региональными и локальными рамками, где греки лучше знали местные особенности, языки и традиции; или в публикациях Невры Неджиполлу [50], профессора департамента истории Босфорского университета, высказывалась мысль о частичном возрождении греческой морской торговли в XIV веке. На деле изменения носили гораздо более радикальный характер.
Корабельные сообщества Кафы в XIV в. в отражении источников. В ситуации масштабного кризиса XIV в. массив частноправовых документов Кафы сократился едва ли не в 10 раз по сравнению с концом XIII в., когда в городе работал нотарий Лам-берто ди Самбучето [15]. Историки располагают коллекциями нотариальных актов Николо Бельтраме, скрибы кафской курии 1343– 1344 гг., совмещавшего частную нотариальную практику с обязанностями протоколирования судебных казусов (86 актов). Они были опубликованы в основном Джованни Бальби [17] и с единичными дополнениями Лаурой Бал-летто [7, p. 177–256; 21], профессорами медиевистики Генуэзского университета. В распоряжении исследователей имеются также акты и опись продававшегося с аукциона имущества, составленные Рикобоно де Боццоло, писцом курии Кафы 1371 г. (3 акта) и опубликованные той же Баллетто [7, p. 229–246; 18, p. 200–235]; акты Николо де Беллиньяно, работавшего в Кафе в той же должности в 1381–1382 гг. (59 актов), изданные в значительной степени Габриэлой Айральди [14, p. 45–104], профессором средневековой истории Генуэзского университета, и c небольшими обновлениями Лаурой Баллетто [7, p. 246– 256; 19]; акты Бартоломео ди Паверио, владевшего нотариальной конторой в Кафе в 1394– 1395 гг. (19 актов), один из каковых был представлен еще в конце ХХ в. Джан-Джакомо Муссо [49, p. 249–250], профессором кафедры истории педагогики Генуэзского университета, и Марией Якопино, остальные же Лаурой Бал-летто [7, p. 257–303; 20] уже в XXI веке.
Первой естественной формой идентификации корабельных сообществ выступал, конечно же, тип судна: гребное или парусное, большого водоизмещения или малого. От этого напрямую зависели количество моряков на борту корабля, число агентов, сопровождавших грузы компаний, торговых обществ, характер труда и отдыха корабельных команд, организации вахт, трапез и др. В указанных актах фигурировали передовые типы судов, вызванные к жизни революцией в навигации той эпохи [72] – круглые парусные кокки [17, p. 40, 79–80], которым суждено будет открыть Новый Свет [51], леньо (lignum) [17, p. 31, 52– 54, 56–58, 60–63, 68–69, 112–114, 129–133; 22, p. 137–138], те же леньо с леерными ограждениями по бортам (lignum de orlo) [17, p. 112–114; 30, p. 932–933], длинные гребные галеи [17, p. 33–35; 40, p. 174–177]. Совершенно не упоминались малые суда, начисто пропали тариды [26, p. 162], довольно часто использовавшиеся в предшествовавшее столетие. Отсутствие барок, сандалов, бусов [40, p. 175–176] можно еще как-то объяснить изменившимся характером документов: они связаны не столько с оформлением торговых сделок, сколько с судебными претензиями и разбирательствами, когда споры владельцев малых судов просто не доходили до судебной курии Кафы, разрешались в изустной форме администраторами порта. Разумеется, реальная жизнь без маломерного морского транспорта не обходилась.
Образ судна, выполненный графически, и выступал наиболее ранним знаком идентичности корабельных сообществ. Таковые встречаются в граффити моряков из Чембало (Балаклава) [1, p. 189], уже с 1341 г. попавшего в орбиту влияния Кафы, где начала работать верфь, строились суда на средства кафской коммуны [5, p. 10], в Каламите (Инкерман) [10, p. 592], также оказавшейся в сфере интересов кафских мореходов, в Солдайе, подчинившейся Кафе в 1365 г. [11] и др. [12, p. 335]. Сами граффити отражали сакральную коммуникацию моряков с Богом [61]. Совмещенность рисунков с грецизмами определенно говорит об их причастности к греческой культуре. Среди них приведены почти два десятка средств плавания: от совсем небольших рыбацких лодок – до нав (рис. 1). В кала-митском монументальном «корабельном каталоге» на самом верху представлена бусо-нава [40, p. 176], гибридный тип судна, ориентированный на эталонные качества навы. Ниже приведена как раз сама нава со всеми ее характерными признаками – высокими баком на носу и ютом на корме, поднятым вверх бушпритом, мачтой, реями, где устанавливался
ПЕРИФЕРИЯ ВИЗАНТИЙСКОГО МИРА квадратный «норманнский» парус поперек корабельного корпуса, гафолью вдоль корабля, где разворачивался треугольный «латинский» парус, вантами, канатными лестницами, штагами, канатами, и марсом, корзиной для впередсмотрящего матроса. Еще ниже уверенной рукой корабельного мастера вычерчен галеас [40, p. 174], приметами которого являлись клюзы, отверстия в борту для весел. По другим признакам он сближался с навой – высокий бак с высоко поднятым бушпритом, двухпалубный ют со стационарным рулем, которым управляли с помощью тросов, две мачты для квадратных парусов, на грот-мачте прикреплялась и гафоль для треугольного паруса (рис. 1–2). Последний рисунок выразительно показывал, что гребной тип судна трансформировался в сторону круглого парусного корабля.
Уже акты Николо Бельтраме 1343– 1344 гг. [17] отражали последние инновации в использовании морского транспорта. В Кафе появились кокки [17, p. 40, 79–80], самые крупные круглые суда той эпохи, способные вмещать груз до 1000 т. На гребных судах прежняя система «дзеньдзинь», когда один гребец управлял одним веслом, сменилась более прогрессивной системой «скалоччо», когда одним веслом управляли несколько гребцов [26, p. 161]. Весла удлинились до 12–14 м, потяжелели до 130–160 кг, скорость увеличилась до 10 узлов (почти 18 км / час), правда на относительно короткое время, на треть часа, после чего требовалась не меньшая пауза для восстановления дыхания и сил. Кафская га-лея «Санта Мария» включала в состав команды 174 гребца [17, p. 33–35], по три гребца на одной скамье и на одном весле, по 29 скамей с каждого борта. Помимо гребцов, были еще палубные и вантовые матросы (30 чел.), ба-листарии для защиты судна (12 чел.), командный состав (комит, командир корабля, суб-комит, его помощник, патрон, судовладелец, владевший основной долей судна, присяжные патроны, советники патрона, сенешалк, распоряжавшийся корабельным имуществом, навклеры, штурманы, всего до 20 чел.), специалисты (скриба, писец, субскриба, его помощник, священник, врач, лоцман, два повара, два – три музыканта, плотник, конопатчик, еще 12 чел.). Вся корабельная команда такой галеи составляла до 250 человек. Команды круглых судов были существенно меньше, на внушительных кокках порядка 70–80 моряков, а на леньо – в пределах 40 [48, p. 95–112]. К ним нужно добавить примерно столько же попутчиков. Таков масштаб корабельных сообществ.
Количество судов также уменьшилось почти в 10 раз в сравнении с данными мину-тария Ламберто ди Самбучето 1289–1290 гг. [15]. В актах Кафы 1343–1344 гг. Николо Бель-траме упоминались 10 леньо [17, p. 23, 25, 28, 31, 52–54, 61, 68, 69, 89, 112, 129–132], 2 кокки [17, p. 40, 79–80], 1 галея [17, p. 33–34] и 1 ле-ньо с леерными бортами [17, p. 62] (рис. 3). По данным книги казначейства Кафы, масса-рия 1374 г., на содержании коммуны находились 7 вооруженных судов – 2 галеры, галео-та, памфила, барка и моноксила [43, fol. 7r, 9r, 15v, 35v, 54v, 56v, 185r]. Однако в эти счета не попадали частные торговые суда.
Несмотря на осаду Кафы армией хана Джанибека в 1343–1347 гг. [29; 75], морская жизнь этого крупнейшего порта Черноморья отнюдь не прервалась. Кафские суда продолжали ходить в крымские гавани Воспоро и Солдайю, Чембало и Салины, кипчакские бухты Провато и Сан-Джорджо, к морскому терминалу Азакского улуса Тане и морским вратам Мегрельского мтаварства Савастополю, до столичного талассополиса империи Великих Комнинов Трапезунда и морских пристанищ Румского султаната Синопа и Симиссо, в ромейский мегаполис Константинополь и его латинский двойник на другом берегу залива Золотой Рог Перу 3 (рис. 4). Не прекращалась и дальняя морская коммуникация за проливами Босфором и Дарданеллами – с латинской синьорией Негропонтом на острове Эвбее и ромейской Монемвасией на Пелопоннесе, королевством Лузиньянов на Кипре и мамлюкской Сирией, анжуйским Неаполем и окситанской Аква Морта, с тосканской Пизой и лигурийской Савоной, с крупнейшими талассокра-тиями той эпохи Генуей и Венецией 4 (рис. 5).
Другой формой идентификации корабельных сообществ было отождествление команды по имени владельца, которому принадлежала решающая доля собственности корабля. Отсюда получили широкое распространение формулировки наподобие «леньо Конра- дино Аккурсо» [17, p. 68] или просто «леньо Аккурсо». Среди судовладельцев в Кафе 1343–1344 гг., что вполне предполагаемо, были лигурийцы и генуэзцы [17, p. 23–26, 31, 33–35, 40–41, 52–54, 56–58, 60–63, 67–69, 79–80, 88– 89, 112–114, 129–133], однако вопреки ожиданиям встречались окситанцы и валенсийцы 5. Собственниками являлись и сирийцы [17, p. 23–26], и сарацины [17, p. 60–63], и на редкость значительная доля греков [17, p. 23–26, 28, 112–114, 129–133] (рис. 6). Если итальянцы удостаивались весьма пристального внимания медиевистов [16; 33], то греки до сих пор оказывались в неоправданном забвении.
Кейс «Корабль под женским попечительством». Максима «женщина на корабле – к несчастью» прожила вплоть до ХХ века. Нормы «Свода римского гражданского права» Юстиниана, активная рецепция которого на Западе началась с XII в., четко фиксировали: «...обычаем отнято у женщин выполнение гражданских обязанностей...»; «...было запрещено вступление женщин в обязательства своих мужей...»; «...не является справедливым выполнение ими мужских обязанностей и подчинение их обязательствам этого рода...»; «...женщине не разрешается быть представителем ни мужа, ни сына, ни отца...» (CIC, DI, l. XVI, t. I, 1–3) [36, p. 376–378; 47, p. 205]. Однако бурная и стремительно менявшаяся жизнь Кафы XIV в. вносила в эти незыблемые нормы свои коррективы.
Никколо Бельтраме зафиксировал примечательный акт от 4 июля 1344 г. [17, p. 112– 114]. Он отразил перипетии половины леньо с леерными бортами «Св. Георгий», каковой принадлежал покойному Анджелино Колумбу из Рапалло, женатому на Янине 6, определенно гречанке, и имевшему от нее сына Янина. Последнего вполне можно считать гасмулом [42], потомком смешанного латинско-греческого брака. Янина, должно быть, происходила из Чембало, поскольку там от ее имени и имени сына была выдана доверенность генуэзскому гражданину Паоло де Подио на ведение различных дел; соответствующий акт был оформлен действовавшим в Чембало генуэзским нотарием Ролландино Саличето в церкви Св. Марии на острове еще тремя годами раньше (2 июня 1341 г.); ссылка на него приводилась в рассматриваемом документе;
таковая делалась на основе предъявления подлинника, или аутентичной копии акта от 2 июня 1341 года. После смерти мужа, каковая произошла, вероятнее всего, в том же 1341 г., что и потребовало от Янины отъезда из Кафы в Чембало к родственникам, возможно, еще живым родителям, вдова совместно с сыном Янином вступила по прошествии года в наследство половиной корабля и еще в течение двух лет получала доходы от его использования. Другой половиной владел Коста Зальма 7, в греческом происхождении которого нет сомнений. Хотя его доля формально равна доле Янины, именно Зальма, вероятнее всего, реально управлял леньо, находясь на его борту, который, по обычаю, должен был обозначаться «леньо Зальмы». Янина же управляла кораблем, не покидая родительского дома в Чембало. Сын Янин вполне мог и непосредственно участвовать в плаваниях на данном леньо, проходя необходимую школу мореходства. По-видимому, он еще не достиг 25 лет, не обрел полной самостоятельности, поэтому его сделки по отчуждению собственности требовали присутствия и согласия попечителя (CIC, DI, l. IV, t. IV, 1) [35, p. 452–453; 47, p. 56], то есть матери. Жизненные обстоятельства побудили мать и сына продать свою половину судна через посредничество Паоло де Подио. Продажа состоялась 4 июля 1344 г. в Кафе, покупателем стал Василий из Порта 7, тоже, очевидно, грек. Цена продажи составила 12 соммо 22 саджо и 1 кварту серебра, взвешенного по весовым стандартам Кафы. За такую сумму можно было в течение шести лет арендовать дом с участком земли в самом центре Кафы, в каструме [17, p. 54– 56]. Доверенное лицо Янины и Янина в день сделки получили в кафском банке Оливерьо де Кастильоне большую часть оговоренной стоимости леньо – 11 соммо, переведенные Георгием из Порта, братом Василия, покупателя судна.
Относительно остатка суммы картулярий кафской курии не сохранил никаких данных. Но и доступный историкам фрагмент позволяет сделать весьма значимые наблюдения: на протяжении двух-трех лет женщина-гречанка выступала в качестве попечителя при своем сыне, гасмуле, не достигшем полной самостоятельности, в управлении леньо
ПЕРИФЕРИЯ ВИЗАНТИЙСКОГО МИРА с леерными бортами «Агиос Георгиос», совершавшем рейсы в черноморском регионе.
Кейс «Женский корабль». Еще более выразительный пример женского судовладе-ния дает нотариальный акт от 19 июля 1344 г. [17, p. 129–133]. Он касался распоряжения половиной леньо «Агиос Николаос». По-види-мому, в соответствии с последней волей завещателя (документ не сохранился, но его условия относительно половины корабля могут легко реконструироваться), первоначального собственника полсудна Рикардо Каста-нья, она была поделена после его смерти между наследниками в следующих долях: 1 карат был определен супруге-вдове, матери, опекуну и попечителю совместных детей – Смеральде 9, надо думать, гречанке; 1,5 карата достались сыновьям – Венедикту, Персивалю и Туману, по 0,5 карата на каждого, гасму-лам, двое из которых носили латинские имена, а один – левантийское; 9 каратов переданы дочерям – Каталине, Элиане и Харменти-зии 10, носившим греческие имена и сохранившим, надо полагать, связь с греческой церковью, по 3 карата на сестру. Меньшие доли сыновьям объяснялись тем, что они были взрослыми, способными уже зарабатывать, и наследство было для них дополнительным бонусом. И наоборот, большие доли дочерям мотивировались их еще малым возрастом, неготовностью зарабатывать самим, потребностями в воспитании, образовании и, самое существенное, в приданном для устройства будущего замужества. Через год после смерти владельца наследники вступили в права на свои доли в корабельной собственности. Сыновья почти сразу же продали свою совокупную долю с согласия матери, что говорит о том, что им еще не было 25 лет. Покупателем выступил генуэзец Бернабове Империале. Две дочери, Каталина и Элиана, еще не достигли половой зрелости, каковая определялась, согласно «Дигестам» Юстиниана, порогом в 12 лет. Они, стало быть, находились под опекой матери, и сделки от их имени могла совершать только мать, Смеральда. Третья дочь, Харментизия, уже преодолела это ограничение, как провозглашалось в «Дигестах»: «...если девушке исполнилось 12 лет, то опека прекращается...» (CIC, DI, l. XXVI, t. V, 13) [37, p. 417; 47, p. 338]. Опека перехо- дила в попечительство. Находившаяся под таковым могла уже от своего имени совершать сделки, но с согласия попечителя. Доли дочерей тоже были проданы, причем тому же Бер-набове Империале за 61 соммо и 3 кварты серебра по весовым стандартам Кафы, за весьма высокую цену. На вырученные деньги можно было купить 8 домов с участками земли в Кафе [17, p. 87–88], каждому из детей по дому и еще два дома для матери.
Известны совладельцы остальной половины судна – Арманино Фатинанти (6 каратов) и Даньяно Пелегрини (3,5 карата), суммарно 9,5 каратов. В действительности, совокупная доля под управлением Смеральды была выше – 10,5 каратов. А это означало, что ее голос определял, какие грузы, в каком объеме, в каких направлениях и по какому фрахту могли перевозиться на названном судне. По сути, в бытовом обиходе оно должно было называться «леньо Смеральды». Ее доля не попала в предмет отчуждения, вообще не упоминалась в акте, что первоначально рождает мысль об ошибке нотария в расчетах, потерявшего одну долю корабля в 1 карат. На деле, эта доля по умолчанию оставалась за Смеральдой. Она сохранила статус патронессы после отчуждения доль детей, а значит, осталась причастной к управлению судном и навигационному бизнесу.
К уникальному сюжету судовладелицы прекрасной иллюстрацией может послужить образ женщины с морскими песочными часами, отмерявшими корабельные вахты, знаком реального управления судном, на фреске Амброджо Лоренцетти из дворца республики Сиены того же времени (рис. 7), флорентийского художника, увлеченного восточной тематикой, изображавшего татар и монголов на своих полотнах [54].
В условиях, когда кризис набирал обороты и в первую очередь выбивал мужчин, женщины, особенно наделенные острым умом и решительностью, заступали на их место. Подобный стереотип поведения женщин должен был стать жизненно спасительным в ситуации, вспыхнувшей двумя-тремя годами позднее чумы, более беспощадной к мужчинам.
Кейс «Понтийский корабль». Встречаются случаи, когда корабельные сообщества словно бы вообще обходились без латинян.
Вот примечательный акт Николо Бельтраме от 3 декабря 1343 г. [17, p. 28]. Несмотря на начало зимы, когда нормы генуэзского морского права запрещали какие-либо плавания [55, p. 762], два партнера понтийского происхождения заключили договор о коменде, связанной с навигацией по Черному морю. Михаил из Негропонта, несомненно, грек, ведший дела в Кафе, выступил в роли кредитора, который предоставил какое-то количество товаров и какую-то сумму денег (таковые сознательно не назывались, дабы не спровоцировать обвинений со стороны церкви в ростовщичестве, озвучивалась лишь сумма, каковую надлежало вернуть), а Андриолос из Симиссо, сын Саркиса, возможно, из смешанной греко-армянской семьи, взял на себя обязательства зафрахтовать судно, отправиться на нем из Кафы с порученными товарами за море, реализовать их там с обещанием возместить Михаилу в Симиссо в течение восьми дней после прибытия в тамошний порт леньо Фи-липпоса Магана 11, еще одного грека, шесть с половиной соммо серебра, взвешенного по весовым стандартам Симиссо. Судовладелец, дабы по максимуму использовать возможности своего леньо, должен был заключить еще около сотни подобных контрактов, о каковых не сохранилось известий.
Сделанные наблюдения подтверждают записи в книгах казначейства Кафы, в масса-риях XIV в., доступных благодаря усилиям С.П. Карпова и А.Л. Пономарева в цифровом формате на сайте Лаборатории по изучению стран Причерноморья и Византии при историческом факультете МГУ. В записи от 14 ноября 1374 г. назывался Коста из Чембало, со всей очевидностью, грек, как патрон монокси-лы, доставивший нескольких преступников из Чембало в Кафу на суд кафского консула [43, fol. 6v]. Согласно записи от 26 июня 1381 г. другой грек, Антониос Стефаникиос, был патроном вооруженной барки, отправленной в Воспоро для реализации запрета плаваний через проливы в Тану [44, fol. 7r].
К этому же кейсу может быть отнесен пример с коккой Никиты Кохомы из Синопа 12, в греческом происхождении которого не приходится сомневаться. Речь идет об акте каф-ского нотария Бартоломео де Паверио от 4 июня 1395 г. [7, с. 298–302, 307; 49, p. 249–
250]. Кохома был владельцем кокки, самого крупного судна, которое использовалось для транспортировки массовых грузов в акватории всего Средиземноморья. Обычно считается, что местные предприниматели способны были владеть только малыми судами, занимавшимися перевозкой небольших партий груза по мелководью, каботажной навигацией между ближайшими портами. Однако Ко-хома перевозил не просто продукцию местных промыслов, как, скажем, соль или рыбу, он занимался транспортировкой очень дорогого, имевшего стратегическое значение товара – меди [60]. По-видимому, еще в 1393 г. он загрузил в Синопе медную руду малоазий-ского происхождения, доставил ее в Кафу, где меднолитейщики кафской коммуны произвели ее очистку, плавку, отливку в листы, а потом, уже в 1394 г., листовую медь он повез дальше. Она могла пойти для покрытия кровель и врат фортификационных сооружений крепостей на побережье Черного моря, подчиненных Кафе [3, c. 100–102], для обивки бортов боевых кораблей, что делало их более защищенными и неуязвимыми в условиях усилившейся конфронтации на море с османами. Поводом для составления акта послужили претензии одного из фрахтователей относительно 10 кантариев уже готовой листовой меди.
Нет нужды вдаваться в суть этих претензий. Гораздо существеннее, что это – всего лишь полтонны груза. Дабы 500-тонную кокку не вести пустой, а нагрузить ее полностью, Кохоме пришлось заключить тысячу таких контрактов, которые, очевидно, все были добросовестно выполнены и не дали повода для споров в суде. Это – тот редчайший случай, когда умолчание источника гораздо красноречивей сообщенной информации.
В ситуации, когда усугубившийся политический кризис опутал итальянские талассок-ратии множеством взаимных деветумов, а также сетью санкций со стороны Золотой Орды, самой болезненной из каковых стал запрет на поставки зерна из земледельческих районов Причерноморья, морские суда под управлением понтийских владельцев и капитанов получали серьезные преимущества в плаваниях в черноморском регионе и даже за его пределами. Неудивительно, что Кафа, прежде активно реэкспортировавшая зерно всех видов в Италию, вынуждена была искать альтернативные источники продовольствия и даже импортировать зерно из далматинской Рагузы [38, no. 357] для удовлетворения запросов собственного городского населения.
Кейс «Корабль без владельца». Еще один удивительный эпизод отыскивается в кафском акте от 30 сентября 1343 г. [17, p. 23– 26]. Он касался тяжбы из-за долга в 8 100 ком-ниновских аспров, указывавших на Трапезунд, где имела хождение подобная денежная единица, как начало сделки. Должник – Иаков из Сирии, состоявший в родстве с греками – уже пропустил все установленные сроки возвращения долга, и кредитор стал требовать с него 16 соммо серебра по весу Кафы, в два с половиной раза завысив курс: 506 аспров-ком-нинатов за 1 кафский соммо, и стал предъявлять претензии на принадлежавший сирийцу леньо с леерными бортами «Св. Георгий», стоявший в порту Кафы и который, по словам моряков, принадлежал Иакову. Поручители Иакова, его родственник, определенно грек Гаура из Трапезунда, и Иоанн из Сирии 13 постарались смягчить долговое бремя, поспешили перевести на имя кредитора через кафский банк Николо де Колоннато 12 соммо серебра, взвешенного по весовым стандартам Кафы. Иоанн даже заявил, что кредитор может взять в порту названный леньо. При этом ни Иоанн, ни Гаура, ни Иаков ни разу не отмечены нотари-ем как хозяева и владельцы леньо, поскольку для удостоверения владельческих прав никем из них не были предъявлены юридические документы собственности. Только в отношении Иакова существовала общая молва, что этот корабль – его. Иаков, судя по всему, отсутствовал не только на борту своего судна, но и в Кафе. Хозяином корабля, согласно «Дигестам», признавался тот, кто получал все доходы и прибыль от его использования, владения и распоряжения; это мог быть как собственник, так и арендатор на ограниченное или неограниченное время; чаще всего таковыми выступала группа сособственников или соарендаторов (CIC, DI, l. XIV, t. I, 15, 25) [36, p. 239; 47, p. 186]. Иаков, судя по словам людей, был одним из них, возможно, с наибольшей долей собственности. Его родственник трапезундец Гаура и сириец Иоанн, вероятно, также имели отношение к владению названным леньо, поэтому за отсутствием основного собственника требование о погашении долга было переадресовано кредитором им. Реальное же управление навигацией леньо осуществлял оставшийся неизвестным комит, или капитан судна, назначенный судовладельцем. Он был правомочен, по тем же «Дигестам», заключать договоры фрахтования с грузовладельцами для перевозки товаров, пассажиров, для закупки снастей; именно ему поручалась забота обо всем корабле и его команде (CIC, DI, l. XIV, t. I, 1–3, 7) [36, p. 238; 47, p. 186].
Здесь историк сталкивается с ситуацией, когда собственнику было выгодно уклоняться от декларирования своей собственности. Это вполне объяснимо тем хаосом, который переживали моряки в середине XIV века. При этом названный леньо продолжал совершать рейсы под управлением капитана, или даже одного из наиболее способных корабельщиков, выдвинутых из среды корабельного сообщества, обеспечивал сотни людей работой, помогал им просто выживать.
Кейс «Достояние рыбака». Невозможно пройти мимо еще одного случая, зафиксированного в акте писца кафской курии Николо де Беллиньяно от 30 мая 1381 г. [7, c. 248–249]. Некто Ликон, без сомнения грек, аттестовы-вавшийся в нотариальном акте как «гриппарий», то есть владелец грипария, небольшого рыболовецкого судна, добился статуса «бургенса Кафы», причастного к принятию решений в жизни города. По завершении своего жизненного пути он оставил супруге Эминосте, гречанке, достаточное имущество. Два дома с беседкой, расположенные в бурге Кафы, в приходе, определенно греческой церкви Агиа Тео-токос, где попом был Михаил, по прозвищу Богослов, вдова решила возможным продать. Она нашла покупателя, гречанку Эмину, жену Пипера, розничного торговца на кафском базаре, договорилась о цене, 270 аспров, весьма скромной. И тут в дело вмешалась некая Ростатон 14, заявившая, что она является дочерью и, стало быть, наследницей Ликоны.
Не важно, чем завершился спор. Много важнее, что простой рыбак тяжелым и не самым прибыльным трудом смог занять достойное положение в обществе, получить статус бургенса, открывавший доступ в городские советы, мог отдыхать с женой в беседке на берегу моря, наслаждаться дарами любви, посещать добрую церковь Богородицы, общаться там с настоящим интеллектуалом, которого прихожане прозвали «Богословом».
Кейс «Рундук корабельного арбалетчика». Вещный мир моряка всегда ускользает от взора исследователя. Но счастливый случай дает один акт того же Белиньяно 24 июля 1381 г. [7, p. 253–256], где говорится о наследстве стрелка из арбалета, корабельного воина, несшего охрану судна. В каждой судовой команде, согласно морскому регламенту начала XIV в., надлежало иметь 12 арбалетчиков [57, col. 320]. Они набирались из молодых людей 20 лет, происходивших из знатных семей, поскольку их служба считалась весьма престижной. Символом их особого статуса, помимо арбалета, было рыцарское вооружение – шлем, кираса, нашейник, меч и клинок. Однако еще до кризисной середины XIV в. стала ощущаться возраставшая нехватка арбалетчиков из числа знати на судах. Уже в 1330 г. Ведомство Газарии, регулировавшее навигацию в Черном море, разрешило патронам и капитанам судов набирать восемь арбалетчиков из матросов и гребцов и только четыре стрелка из знатных семей [57, col. 324–325]. В дальнейшем, когда кризис начал набирать обороты и на морях стали чаще возникать вооруженные столкновения с пиратами, корсарами и судами недружественных стран, возникла необходимость увеличить численность арбалетчиков до 16 человек [4, p. 97]. Названный документ относился как раз к этим изменившимся условиям морской службы стрелков из арбалета, когда они набирались из простых матросов. Документ представляет собой опись имущества покойного арбалетчика. В ней называлось довольно много вещей, зачастую они были очень ветхими, рваными, ничтожной стоимости. Но некоторые предметы там очень выразительны:
coratiam unam marcidam, debilem et laceratum... collarium ferreum ville, cum manicis, pro armando, vilibus et devastates...
spata una Latina...
cassonum unum pro armis...
tabula vetera pro navigandi...»
Здесь – и «миланская гонна», грубая рубаха моряка с полами ниже колен, рваная и изношенная, дешевейшая, почти нулевой стоимости. Именно она служит выразительным свидетельством предшествующей службы арбалетчика в качестве простого матроса. Здесь – и «команеска», команский плащ, льняной, окрашенный, без пуговиц. Это – и кираса, испорченная, с изъянами и очень старая; это – и железное нашейное ожерелье с перчатками, старыми и с утраченными креплениями; это – и латинский меч, короб для оружия. Как раз эти последние вещи обозначали возвысившийся статус моряка в качестве воина-стрелка.
Особо впечатляет «старая морская карта». На первый взгляд, ее присутствие выглядело нелогично, лежало за пределами прямых компетенций воина. Но на этой карте могли отмечаться опасные для плавания места, где находились пиратские гнезда, где собирались суда враждебных стран, то есть помещалась весьма значимая информация для лица, возглавившего охрану судна, отвечавшего за его безопасность, организацию вахт, усиленных нарядов и других мер.
Возможно, это была единственная вещь, которая могла еще принести пользу новому поколению моряков, вынужденных действовать в условиях войны всех против всех.
Выводы. В целом в условиях глобального кризиса XIV в. корабельные сообщества Кафы, узлового центра в коммуникации между континентами Старого Света, претерпели весьма существенные изменения. Задолго до торжества феминизма нашего времени, впервые в дела управления морской навигацией, прежде сугубо мужские, включились женщины. Сменился доминантный профиль корабельных сообществ, они перестали быть исключительно латинскими, находившимися под управлением латинян, идентифицировавшимися по латинским именам судовладельцев. Появились новые корабельные сообщества, охватывавшие самые крупные суда того времени и широкий радиус действия во всем Средиземноморье, которые находились под управлением греков и понтийцев, то есть выходцев из понтийского региона. Возникли принципиально новые типы корабельных сообществ, обходившиеся без собственников, находившиеся, по существу, в общем управлении. Как раз эти изменения сделали их более стрессоустойчивыми, способными не только к простой выживаемости, но и содействовавшими поступательному развитию локальных сообществ.
Список литературы Корабельные сообщества Кафы в ситуации кризиса XIV века
- Adaksina S.B., Kirilko VP., Myts VL. Otchetob arkheologicheskikh issledovaniyakh srednevekovoy kreposti Chembalo (g. Balaklava) v 2003 g. [Report of Archaeological Research of the Medieval Fortress of Cembalo (Balaclava) in 2003]. Saint Petersburg, Ermitazh, 2004. 253 p.
- Emanov A.G. Mezhdu Polyarnoy zvezdoy i Poludennym Solntsem: Kapha v mirovoy torgovle XIII-XVvv. [Between Polar Star and Midday Sun: Caffa in World Trade in 13th - 15th Centuries]. Saint Petersburg, Aletheia Publ., 2018. 362 p.
- Emanov A. Kafa kak talassopolitiya: genezis grazhdanskoy «morskoy identichnosti» pozdne-srednevekovogo goroda [Caffa as Thalassopoliteia: Genesis of the Civic "Maritime Identity" in a Late Medieval City]. Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki, 2023, vol. 25, no. 3, pp. 92-111.
- Karpov S.P. Putyami srednevekovykh morekhodov. Chernomorskaya navigatsiya Venetsianskoy Respubliki v XIII-XV vv. [Black Sea Navigation of the Venetian Republic in the 13th - 15th Centuries]. Moscow, Vost. lit. Publ., 1994. 158p.
- Karpov S.P. Regesty dokumentalnogo fonda Diversorum filze Sekretnogo arkhiva Genui, otnosyashchiesya k istorii Prichernomorya [Regesten of Documentary Fund's Diversorum filze from Genoa's Secret Archive Pertaining to the History of Black Sea Region]. Prichernomoryev srednie veka, 1998, vol. III, pp. 9-81.
- Karpov S.P. Krisis serediny XIV v.: nedootsenennyy povorot? [Crisis of the Mid 14th Century: Underestimated Turning-Point?]. Litavrin G.G., ed. Vizantiya mezhdu Zapadom i Vostokom. Opyt istoricheskoy kharakteristiki [Byzantium between West and East. Essay in Historical Landmarks]. Saint Petersburg, Aletheia Publ., 1999, pp. 220-238.
- Karpov S.P. Akty genuezskikh notariev, sostavlennye v Kaffe i v drugikh gorodakh Prichernomorya v XIV-XV vv. [Acts of Genoese Notaries Drawn up in Caffa and Other Cities of the Black Sea Region in the 14th - 15th Centuries]. Saint Petersburg, Aletheia Publ., 2018. 760 p.
- Karpov S.P. Istoriya Tany (Azova) v XIII-XVvv. [History of Tana (Azov) in the 13th -15th Centuries], vol. I. Saint Petersburg, Aletheia Publ., 2022. 378 p.
- Nadelyaev VM., Nasilov D.M., Tenishev E.R., Shcherbak A.M. Drevnetyurkskiy slovar [Old Turkic Dictionary]. Leningrad, Nauka Publ., 1969. 677 p.
- Romanchuk A.I. Issledovaniya Khersonesa -Khersona. Raskopki. Gipotezy. Problemy [Investigations of Chersonessos - Cherson. Excavations. Hypothesis. Problems], vol. II. Tyumen, Tyumen. gos. un-t, 2008. 623 p.
- Tur V.G. K voprosu o chernomorskom sudokhodstve XV-XVI vv. [To the Question of Black Sea Shipping in 15th - 16th Centuries]. Morska torgivlya v Pivnichnomu Prichermoryi. Kyiv, Kyiv National Taras Shevchenko University, 2001, pp. 216-221.
- Tur V. G. Arkheologicheskie razvedki v Yugo-Vostochnom Krymu [Archaeological Surveys in Southeast Crimea]. Materialypo arkheologii, istorii i etnografii v Tavrii [Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria], 2003, no. 10, pp. 322-341.
- Abulafia D. Thalassocracies. Horden P., Kinoshita Sh., eds. A Companion to Mediterranean History. Hoboken, Wiley-Blackwell, 2014, pp. 139-153.
- Airaldi G. Studi e documenti su Genova e l 'Oltremare. Bordighera, Istituto Internazionale di studi Liguri, 1974. 360 p.
- Balard M. Génes et l'Outre Mer. T. I: Les actes de Caffa du notaire Lamberto di Sambuceto 12891290. Paris, La Haye, Mouton, 1973. 420 p.
- Balard M. Les Latins en Orient (XIIe-XVIe siècle). Paris, Presses Universitaires de France, 2006. 452 p.
- Balbi G. Atti rogati a Caffa da Nicolô Beltrame (1343-1344). Balbi G., Raiteri S., eds. Notai Genovesi in Oltremare. Atti rogati a Caffa e a Licostomo (sec. XIV). Bordighera, Istituto Internazionale di studi Liguri, 1973, pp. 7-184.
- Balletto L. Genova. Mediterraneo. Mar Nero (secc. XIII-XV). Genova, Civico Istituto Colombiano, 1976. 293 p.
- Balletto L. Caffa Genovese alla fine del Trecento. Il Mar Nero. Annali di archeologia e di storia, 1995/1996, vol. I, pp. 223-224.
- Balletto L. Fonti notarili inedite su Caffa e sul Mar Nero tra XIV e XV secolo. Il Mar Nero. Annali di archeologia e di storia, 2003, vol. IV, pp. 161-177.
- Balletto L. Caffa 1344: una carta inedita del notaio Nicolô Beltrame. Bulgaria medievalis, 2014, no. 1, pp. 173-194.
- Blatt F. Novum glossarium mediae latinitatis ab anno DCCC usque ad annum MCC. Vol. I. Hafniae, Ejnar Munksgaard, 1957. 232 p.
- Bordier J.-P. Perceval, presence et mistère. Presses universitaires de Paris Nanterre, 2013, no. 1, pp. 233-246.
- Degroot D. et al. The History of Climate and Society: A Review of the Influence of Climate Change on the Human Past. Environmental Research Letters, 2022, vol. XVII, no. 103001, pp. 1-35.
- Gallo M.C. Jeans per caso. Jeans! Le origini, il mito Americano, il made in Italy: catalogo della mostra (Prato, Museo del tessuto). Firenze, Maschietto Editore, 2005, pp. 15-25.
- Gertwagen R. Nautical Technology. Horden P., Kinoshita Sh., eds. A Companion to Mediterranean History. Hoboken, Wiley-Blackwell, 2014, pp. 154-169.
- Getty J.P., ed. Thesaurus of Geographic Names. Los Angeles, California, Getty Center, 2004. URL: getty.edu/vow
- Gordyeyev A., Tereshchenko A. Place Names ofthe Black Sea and Sea of Azov Coasts from Portolan Charts XIV-XVII Centuries. Vol. I. Kiyev, Academia.edu, 2017. 425 p.
- Grinberg M. Janibeg's Last Siege of Caffa (1346-1347) and the Black Death: The Evidence and Chronology Revisited. Turcological Studies, 2018, vol. I, no. 2, pp. 19-31.
- Jal A. Glossaire nautique. Répertoire poliglotte de terms de marine anciens et modernes. Vol. II. Paris, Firmin Didot, 1848. 1590 p.
- Jeffreys M., ed. Prosopography of the Byzantine World. London, King's College of London, 2016. URL: pbw2016.kdl.kcl.ac.uk
- Kazhdan A. Oxford Dictionary of Byzantium. Vol. II. Oxford, Oxford University Press, 1991. 1478 p.
- Khvalkov I.A. The Colonies of Genoa in the Black Sea Region: Evolution and Transformation. New York, London, Routledge, 2018. 458 p.
- Koder J. Tabula Imperii Byzantini. Vol. I (Negroponte). Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1973. 191 p.
- Kofanov L.L., ed. Digesta Iustiniani. Vol. I. Moscovia, Statut, 2002. 584 p.
- Kofanov L.L., ed. Digesta Iustiniani. Vol. III. Moscovia, Statut, 2008. 780 p.
- Kofanov L.L., ed. Digesta Iustiniani. Vol. IV. Moscovia, Statut, 2002. 780 p.
- Krekic B. Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen Âge. Paris, La Haye, Mouton & C°, 1961. 440 p.
- Külzer A., Popovic M., eds. Digital Tabula Imperii Byzantini. Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2024. URL: tib.oeaw.ac.at/digtib
- Lilian Ray M. The Art and Archaeology of Venetian Ships and Boats. London, Chathan Publishing, 2001. 248 p.
- Liritzis J., Westra A., Miao C. Disaster Geoarchaeology and Natural Cataclysm in World Cultural Evolution. Journal of Coastal Research, 2019, vol. XXXV, no. 6, pp. 1307-1330.
- Makris G. Die Gasmulen. Thesaurismata, 1992, vol. XXII, pp. 43-96.
- Massaria Caffae 1374. URL: http://hist.msu.ru/ departments/8823/pojects/MC 1374
- Massaria Caffae 1381. URL: http://hist.msu.ru/ departments/8823/pojects/MC 1381
- Migne J.-P. Patrologiae cursus completus. Serie Latina. T. CIII. Lutetiae Parisiorum, 1851. 1475 col.
- Mitsiou E., Preiser-Kapeller J. Moving Hands: Types and Scales of Labour Mobility in the Late
- Medieval Eastern Mediterranean (1200-1500). De Vito C.G., Gerritsen A., eds. Micro-spatial Histories of Global Labour. London, Palgrave MacMillan, 2018, pp. 29-68.
- Mommsen Th., Krüger P., Schöll R., Kroll G., eds. Corpus iuris civilis. Vol. I. Berolini, Apud Weidmannos, 1872. 873 p.
- Musarra A. Medioevo marinaro. Prender il mare nell 'Italia medievale. Bologna, Il Mulino, 2021. 304 p.
- Jacopino M.S., ed. Musso G.G. Navigazione e commercio Genovese con il Levante nei documenti dell'Archivio di Stato di Genova (secc. XIV-XV). Roma, Ministero per i Beni culturali, 1974. 291 p.
- Necipoglu N. The Byzantine Economy and the Sea: The Maritime Trade of Byzantium, 10th -15th Centuries. Balard M., ed. The Sea in History. The Medieval World. Woodbridge, The Boydell Press, 2017, pp. 437-448.
- Ortega Villoslada A. La coca en el intercambio mercante Atlantico-Mediterraneo. Annuario de estudios medievales, 2008, vol. XXXVIII, no. 1, pp. 429-444.
- Pagratis G. The Byzantine and Greek Merchant Maritime Enterprises in the Medieval Mediterranean. Balard M., ed. The Sea in History. The Medieval World. Woodbridge, The Boydell Press, 2017, pp. 425-436.
- Parker R., Luraghi N., eds. Lexicon of Greek Personal Names: Database. Oxford, University of Oxford, 2023. URL: lgpn.ox.ac.uk
- Prazniak R. Siena and the Silk Roads: Ambrogio Lorenzetti and the Mongol Global Century, 1250-1350. Journal of World History, 2010, vol. XXI, no. II, pp. 177-217.
- Promis V. Statuti della colonia Genovese di Pera. Miscellanea di storia italiana. Torino, 1870, vol. XI, pp. 513-780.
- Radloff W. Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte. Vol. III, pt. II. Sanct-Pétersbourg, Académie Impériale des Sciences, 1905. 2204 col.
- Sauli L. Imposicio Officii Gazariae.Monumenta historiae patriae. Vol. II. Augustae Taurinorum, E Regio Typographeo, 1838, cols. 306-430.
- Schmidt M., ed. Hesychii Alexandrini Lexicon. Jenae, Sumptibus Hermanni Duftii, 1867, 1612 col.
- Spyrou M. et al. The Source of Black Death in Fourteenth-Century Central Eurasia. Nature, 2022, vol. DCVI, no. 6, pp. 718-742.
- Thomas N., Dandridge P., eds. Medieval Copper, Bronze and Brass. Namur, Agence Wallone du Patroine, 2018. 420 p.
- Thomov Th. Maritime ex-voto Graffiti from the Church of Hagia Sophia, Constantinople. Byzantinoslavica, vol. LXXIII, n 1-2, pp. 57-74.
- Todt K.-P., Vest A., eds. Tabula Imperii Byzantini. Vol. XV (Syria). Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2014. 801 S.
- Trapp E., ed. Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. Fasz. 1. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1976. 164 S.
- Trapp E., ed. Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. Fasz. 3. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1978. 176 S.
- Trapp E., ed. Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. Fasz. 4. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1980. 214 S.
- Trapp E., ed. Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. Fasz. 5. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1981. 240 S.
- Trapp E., ed. Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. Fasz. 6. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1997. 242 S.
- Trapp E., ed. Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. Fasz. 8. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1995. 220 S.
- Trapp E., ed. Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. Fasz. 10. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1990. 248 S.
- Trapp E., ed. Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. Fasz. 11. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1991. 258 S.
- Trapp E., ed. Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. Fasz. 12. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1995. 267 S.
- Villain-Gandossi Ch. La révolution nautique médiévale (XIII-XV siècles). Balard M., Ed. The Sea in History. The Medieval World. Woodbridge, The Boydell Press, 2017, pp. 70-89.
- Ward D. Weather, Climate, and Society. Tucson, The University of Arizona, 2023. 156 p.
- Whitehead D., ed. Suda On Line: Byzantine Lexicography. London, Institute of Classical Studies, 2014. URL: cs.uky.edu/
- Zanders J.P. De Mussi and the Siege of Caffa. Origin of a Biological Warfare Allegation. Working Paper Series on the History of Chemical and Biological Warfare, 2021, no. 1, pp. 1-18.