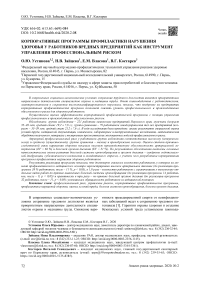Корпоративные программы профилактики нарушения здоровья у работников вредных предприятий как инструмент управления профессиональным риском
Автор: Устинова О.Ю., Зайцева Н.В., Власова Е.М., Костарев В.Г.
Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk
Рубрика: Оценка риска в гигиене
Статья в выпуске: 2 (30), 2020 года.
Бесплатный доступ
В современных социально-экономических условиях сохранение трудового долголетия является приоритетным направлением деятельности специалистов охраны и медицины труда. Опыт взаимодействия с работодателями, заинтересованными в сохранении высококвалифицированного персонала, показал, что внедрение на предприятии корпоративных профилактических программ позволяет снизить уровень профессионального и производственно обусловленного риска для здоровья работников. Осуществлена оценка эффективности корпоративной профилактической программы с позиции управления профессиональным и производственно обусловленным риском. Обследованы: группа наблюдения - 221 работник химических предприятий Пермского края, мужчины (возраст 55-40 лет, средний стаж 19,2 ± 7,8 г.), группа сравнения - 79 работников заводоуправления тех же предприятий (возраст - 55-39 лет, средний стаж 21,2 ± 7,6 г.). В ходе исследования были проведены: анализ результатов специальной оценки условий труда, медицинской документации, клиническое, лабораторное и инструментальные исследования, математическая обработка полученного материала с построением прогностических эволюционных моделей профессионального риска...
Профессиональный риск, управление риском, корпоративные профилактические программы, профилактика нарушений здоровья, оценка условий труда, болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания
Короткий адрес: https://sciup.org/142224440
IDR: 142224440 | УДК: 616-02: | DOI: 10.21668/health.risk/2020.2.08
Текст научной статьи Корпоративные программы профилактики нарушения здоровья у работников вредных предприятий как инструмент управления профессиональным риском
Костарев Виталий Геннадьевич – кандидат медицинских наук, главный государственный санитарный врач по Пермскому краю, руководитель (e-mail: ; тел.: 8 (342) 239-35-63; ORCID: .
тельно1, а также могут быть закреплены коллективным договором2. Любой труд несет потенциальный риск здоровью [2–4]. Производство химической промышленности характеризуется комплексным негативным воздействием производственных факторов на организм работающих. К ним относятся: производственный шум, производственная вибрация, микроклимат, содержание в воздухе рабочей зоны (ВРЗ) химических веществ, соответствующих профилю производства, промышленной пыли, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК), а также неблагоприятные условия труда (тяжесть, напряженность труда и производственный стресс). Воздействие химических веществ, используемых в технологическом процессе, носит интермиттирующий характер в течение смены [5]. Длительное постоянное сочетанное воздействие химических и физических факторов на фоне неблагоприятных условий труда приводит к снижению функциональных резервов организма, нарушению биохимических процессов (интенсификации неоглюкогенеза, атеро-генеза, свободнорадикального повреждения клеточных мембран) и, как следствие, к возникновению патологических изменений со стороны органов и систем (чаще всего заболеваний сердечно-сосудистой системы) [5, 6]. В зависимости от тропности, механизма действия и интенсивности воздействия производственного фактора регистрируется четкая стадийность развития патологических изменений в организме [3]. Наиболее часто при воздействии химических веществ первично формируются неспецифические изменения в системах кровообращения и дыхания (артериальная гипертензия (АГ), атеросклероз с поражением периферических и экстракраниальных артерий, а также мультифокальный атеросклероз, нарушение бронхиальной проводимости) [6, 7]. Профессиональный риск в зависимости от условий труда может быть категорирован от пренебрежимо малого до высокого. Воздействие промышленных аэрозолей достоверно повышает риск развития общесоматической патологии органов дыхания. Диагностика субклинических нарушений на этапе периодического медицинского осмотра (ПМО), в том числе у стажированных работников, позволит отсрочить формирование заболевания и сохранить профессиональную трудоспособность [7, 8].
Оценка и управление профессиональными и производственно обусловленными рисками является составной частью системы охраны труда, включающей сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности (установление связи нарушений здоровья с работой, поиск методик, позволяющих уточнить величину профессионального риска) [9–11].
На практике основным профилактическим мероприятием со стороны работодателя являются ПМО, регламентируемые приказом 302н3, которые направлены на выявление клинических форм заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями к продолжению трудовой деятельности. Сложившийся подход не содержит ни медико-профилактической составляющей, ни элементов управления профессиональным риском.
Опыт взаимодействия с работодателями, заинтересованными в сохранении высококвалифицированного персонала, показал, что внедрение на предприятии корпоративных профилактических программ с учетом уровня риска развития заболеваний позволяет минимизировать риск для здоровья работников и сохранить профессиональную трудоспособность [7].
Цель исследования – оценка эффективности корпоративной профилактической программы с позиции управления профессиональным риском.
Материалы и методы. Для выполнения работы были сформированы: группа наблюдения – 221 работник химических предприятий Пермского края, мужчины (возраст 55–40 лет, средний стаж 19,2 ± 7,8 г.), группа сравнения – 79 работников заводоуправления тех же предприятий (возраст – 55–39 лет, средний стаж 21,2 ± 7,6 г.). Основные профессии в группе наблюдения: хлораторщик, электролизник расплавленных солей, плавильщик расплавленных металлов, разливщик цветных металлов и сплавов, прокальщик. В группу сравнения вошли специалисты охраны труда и промышленной безопасности, инженеры, работающие без воздействия вредных производственных факторов. Группы сопоставимы по полу, социальному статусу, стажу и возрасту. Для анализа вклада производственных факторов в нарушение состояния с увеличением стажа работники обеих групп были ранжированы на стажевые подгруппы: 0–5 лет; 5,1–10 лет; 10,1–15 лет; 15,1 лет и более.
В ходе исследования проведены: анализ результатов специальной оценки условий труда (СОУТ) рабочих мест обследуемого контингента, медицинской документации, заключительных актов по результатам ПМО; клинический осмотр врачами-специалистами с оценкой состояния системы кровообращения и органов дыхания; лабораторное и инструментальное исследования; математическая обработка полученного материала с построением прогностических эволюционных моделей профессионального риска [12].
Социологическое исследование распространенности непрофессиональных факторов риска, влияющих на развитие болезней системы кровообращения (БСК) и болезней органов дыхания (БОД), осуществлено методом раздаточного анкетирования; способ отбора респондентов – целевой [13].
Для оценки функциональной активности эндотелия сосудов выполнялась проба потокзависимой (эндотелийзависимой) вазодилатации плечевой артерии с использованием аппарата ультразвукового исследования (УЗИ) Vivid q (GE Vingmed Ultrasound AS, Норвегия) линейным датчиком 4–13 МГц (D.S. Celermajer).
Оценка морфологической структуры экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (БЦА) осуществлялось на ультразвуковом сканере Vivid q (GE Vingmed Ultrasound AS, Норвегия) линейным датчиком с диапазоном частот 4–13 МГц. Оценивалась толщина комплекса интима-медиа (ТКИМ).
Кардиоинтервалография с оценкой баланса звеньев вегетативной нервной системы (ВНС) проводилась по стандартной методике (Р.М. Баевский, 1979; Д. Жемайтите, 1989) в программе «Поли-Спектр-8/ЕХ» («Нейрософт», Россия).
Анализ функции внешнего дыхания выполнен методом спирографии (СПГ) на компьютерном спирографе Schiller SP-10 с применением датчика SP-20 (Schiller AG, Швейцария).
Лабораторные исследования включали тесты, выполненные унифицированными гематологическими, биохимическими и иммуноферментными методами, позволяющими оценить функциональное состояние органов-мишеней. Лабораторная диагностика проведена с использованием автоматических анализаторов (гематологического – АcТ5diff AL,
США, Backman, Франция; биохимического – Konelab 20, ThermoFisher, Финляндия, и иммуно-ферментного – Infinite F50 Teca, Австрия).
Оценка риска проводилась в соответствии с Р 2.2.1766-034. Связь нарушения здоровья с условиями труда устанавливалась на основании показателей относительного риска ( RR ), доверительного интервала ( CI ) и этиологической доли ответов, обусловленных воздействием фактора профессионального риска ( EF ), с помощью электронного калькулятора [9].
Статистическую обработку осуществляли с помощью методов вариационной статистики. Проверка статистических гипотез относительно параметров моделей проводилась с использованием критериев Стьюдента и хи-квадрат (χ2). При нормальном распределении и использовании критерия Стьюдента данные представлены в виде среднего ( S ) и стандартного отклонения ( SD ) и в виде медианы ( Ме ) и интерквартильного размаха (25-й и 75-й процентили) при распределении, отличном от нормального. Уровень значимости – р = 0,05 ( р < 0,05). Обработка полученных данных проводилась при помощи пакета программ SPSS 16.0, Stata/SE 12.1 for Windows, программного модуля, выполненного в виде макроса MS Excel. Было выполнено ситуационное моделирование [14–16].
Исследование осуществлено в рамках научных мероприятий ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» на 2018 г. в соответствии с нормами, изложенными в Хельсинкской декларации (редакция 2008 г.), и правилами ICHGCP, а также в соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ-Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика» (ICH E6 GCP). Программа исследования утверждена на заседании локального этического комитета (протокол № 33 от 12.02.2018 г.).
Результаты и их обсуждение. Условия труда работников основных профессий химических предприятий определяет сочетанное воздействие химического (хлор и его соединения, сера и ее соединения), физического (шум, вибрация, микроклимат) факторов и тяжести труда. Согласно результатам СОУТ на 100 % рабочих мест работников группы наблюдения условия труда оценены как «вредные», у работников группы наблюдения – «допустимые» (табл. 1).
Таблица 1
Ранжирование рабочих мест работников групп наблюдения и сравнения по классу условий труда по результатам специальной оценки условий труда, %
|
Группа |
Удельный вес рабочих мест по классу условий труда |
||||
|
1 и 2 |
3.1. |
3.2. |
3.3. |
3.4. |
|
|
Наблюдения |
0 |
30 |
55 |
15 |
0 |
|
Сравнения |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 Руководство по оценке риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки. 2.2. Гигиена труда [Электронный ресурс] // КОДЕКС: электронный фонд правовой и нормативнотехнической документации. – URL: (дата обращения: 20.05.2020).
Таблица 2
Категории профессионального риска работников основных профессий химических производств по контингентам (Р 2.2.1766-03)
|
Группа наблюдения |
Группа сравнения |
||
|
Рабочее место |
Профессиональный риск |
Рабочее место |
Профессиональный риск |
|
Хлораторщик |
Высокий (непереносимый) |
Мастер |
Малый (умеренный) |
|
Электролизник расплавленных солей |
Средний (существенный) |
Старший мастер |
Малый (умеренный) |
|
Разливщик цветных металлов и сплавов |
Средний (существенный) |
Начальник отделения |
Пренебрежимо малый |
|
Плавильщик |
Средний (существенный) |
Заместитель начальника цеха |
Пренебрежимо малый |
|
Прокальщик |
Средний (существенный) |
Начальник цеха |
Пренебрежимо малый |
Априорный профессиональный риск у работников группы наблюдения соответствовал высокому (непереносимому) и среднему (существенный), группы сравнения – малому и пренебрежимо малому (табл. 2).
Анализ распространенности поведенческих факторов риска показал, что между группами отсутствуют статистически достоверные различия ( p > 0,05). В частности, доля курящих работников в группах наблюдения и сравнения составила 31 и 27 % соответственно ( p > 0,05). Длительность употребления табака достигала в среднем 20 лет в группе наблюдения (среднее количество выкуриваемых сигарет 15 в день); в группе сравнения – 18 лет (13 сигарет в день, p > 0,05). Анализ употребления алкогольных напитков также не выявил достоверных различий. Установлено, что основная масса обследованных работников употребляет алкоголь до двух раз в месяц (86 % работников группы наблюдения, 77 % – группы сравнения, p > 0,05). На выбор алкоголя влияет уровень образования. Работники с высшим образованием в 62,2 % случаев отдают предпочтение слабому алкоголю (вино), V Cramers = 0,464, p < 0,05. Лица с начальным и средним образованием предпочитают крепленые вина, крепкие напитки, V Cramers = 0,469, p < 0,05. Выявлена слабая связь ( r = 0,2, p < 0,05) между возрастом работника и употреблением пива: работники в возрасте до 30 лет употребляют пиво раз в неделю и чаще в количестве более 1 л (43,7 % в группе наблюдения и 38,2 % в группе сравнения; V Cramers = 0,469, p < 0,05).
Опрос работников группы наблюдения показал либо отсутствие жалоб вследствие «синдрома здорового работника», либо их неспецифичность, что затрудняет раннюю диагностику и прогнозирование дальнейшей трудоспособности. В ходе клинического обследования установлено, что ведущим клиническим синдромом был астеновегетативный (повышенная утомляемость, снижение работоспособности, лабильность настроения и нарушение сна) различной степени выраженности, выявленный практически у всех обследованных группы наблюдения.
Артериальная гипертензия (АГ) по уровню офисного артериального давления (АД) наблюдалась в 33 % случаев у работников группы наблюдения, в 18 % – группы сравнения (χ2 = 6,7; р = 0,01;
RR = 1,7; 95 % CI = 1,1–3,1; EF = 66 %). Отмечалось увеличение работников с верифицированным диагнозом в зависимости от стажа. У работников группы наблюдения при стаже более 10 лет в 3,5 раза чаще верифицировалась АГ (χ2 = 4,3, р = 0,03), при стаже более 15 лет – в 2,7 раза (χ2 = 6,7, р = 0,01). Результаты представлены в табл. 3.
Таблица 3
Распространенность артериальной гипертензии в зависимости от стажа работы в группах наблюдения и сравнения, %
|
Группа |
Стаж, лет |
|||
|
0–5 |
5,1–10 |
10,1–15 |
более 15 |
|
|
Наблюдения |
12,7 |
17,6 |
30,6 |
59,6 |
|
Сравнения |
4,0 |
5,0 |
9,0 |
22,3 |
|
p * |
p > 0,05 |
р > 0,05 |
р < 0,05 |
р < 0,05 |
П р и м е ч а н и е : * p – достоверность различий между значениями в группах наблюдения и сравнения.
Болезни органов дыхания (БОД) с обструктивными нарушениями на уровне нижних отделов также чаще встречались у работников группы наблюдения: показатель в три раза превышает данные группы сравнения (χ2 = 17,6; р < 0,001; RR = 3,2; 95 % CI = 1,7–5,8; EF = 51 %). При стаже 15 лет и более у 19,1 % работников была диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких, а в группе наблюдения только в 5 % случаев ( р < 0,05). Одной из особенностей формирования патологии органов дыхания у работников химических производств являлся длительный латентный период развития заболевания и сохранение функции внешнего дыхания в пределах условной нормы за счет функциональных резервов.
Согласно литературным данным, профессиональные факторы могут выступать в качестве триггеров, запуская патогенетические механизмы развития и прогрессирования общих заболеваний. Неблагоприятные профессиональные факторы (физические, химические и психофизиологические) приводят к дисбалансу оксидантной и антиоксидантной систем [17–20].
Оценка функциональной активности эндотелия плечевой артерии в пробе эндотелийзависимой вазодилатации показала, что у 85,5 % работников группы наблюдения отмечалась патологическая реакция, а в группе сравнения подобная реакция была отмечена только у 3,7 % (χ2 = 168,6; р < 0,001; RR = 22,5; 95 % CI = 7,4–68,4; EF = 85 %). Прирост диаметра плечевой артерии после реокклюзии у работников группы наблюдения составил 5,22 ± 1,34, в группе сравнения – 13,53 ± 1,08 (р < 0,001), а среднее значение коэффициента чувствительности было в пять раз ниже у работников группы наблюдения, чем в группе сравнения (0,053 ± 0,024 и 0,265 ± 0,058, р < 0,001). Полученные результаты подтверждают положение о связи нарушения функциональной активности эндотелия с экспозицией вредных производственных факторов [21].
Результаты математического моделирования показали, что вероятность развития АГ преимущественно ассоциирована с производственным шумом ( F = 1621; R 2 = 0,95; р = 0,001, r = 0,3), БОД – с повышением в ВРЗ концентрации хлора и его соединений ( F = 296; R 2 = 0,79; р = 0,003, r = 0,3); вероятность эндотелиальной дисфункции и с производственным шумом ( F = 3387; R 2 = 0,96; р < 0,001; r = 0,6), и с содержанием в ВРЗ хлора и его соединений ( F = 54; R 2 = 0,29; р < 0,001).
Признаки атеросклероза в виде локального увеличения ТКИМ зарегистрированы практически у каждого третьего работника группы наблюдения (29 % у работников группы наблюдения, 15 % – группы сравнения, p = 0,05; OR = 2,3; 95 % CI = 1,2–4,4; RR = 1,9; 95 % CI = 1,1–3,3). Результаты УЗИ БЦА на экстракраниальном уровне выявили достоверные различия по ТКИМ: в группе наблюдения – 0,99 ± 0,02 мм, в группе сравнения – 0,77 ± 0,05 мм, р < 0,001). При этом темп прироста ТКИМ у работников группы наблюдения при стаже более 10 лет составил 0,016 мм в год, при норме до 0,0138 мм в год.
Анализ данных кардиоинтервалографии показал глубокие нарушения компенсаторных механизмов у 35 % работников группы наблюдения и только у 12 % – группы сравнения, сопровождающиеся патологической стабилизацией модуляции сердечного ритма с переходом на нейрогуморальный уровень регуляции (χ2 = 15,6; р < 0,01; RR = 3,9, 95 % CI = 1,5–2,3; EF = 46 %). В ходе исследования установлено, что в группе наблюдения с возрастом мощность HF (дыхательные волны, отражающие активность парасимпатического кардиоингибиторного центра продолговатого мозга), характеризующих активность парасимпатического звена регуляции, снижалась значительнее, чем мощность LF (отражающие активность симпатических центров продолговатого мозга, в том числе кардиостимулирующего и вазоконстрикторного). Прослеживалась тесная связь между мощностью HF и временными показателями RMSSD (квадратный корень из средней суммы квадратов разностей между соседними NN-интервалами) и pNN50 (количество пар соседних NN-интервалов), что свидетельствует в основном об активности парасимпатической системы. В норме в результате ослаб- ления активности парасимпатических и повышения симпатических влияний снижение в структуре вариабельности ритма сердца (ВРС) начинается после 50 лет. Среднее значение волн HF в покое (HF1, %) у работников группы наблюдения находились в пределах физиологических значений, но показатели были достоверно ниже аналогичных группы сравнения (33,2 ± 3,4 % – в группе наблюдения, 27,9 ± 3,1 % – в группе сравнения, р = 0,026), что указывает на большее включение центральных эрготропных и гуморально-метаболических механизмов. Индекс ваго-симпатического взаимодействия (LF/HF1) у работников группы наблюдения практически в два раза превышал аналогичный показатель у работников группы сравнения (1,9 ± 0,5 и 1,0 ± 0,3 соответственно, р = 0,008). При анализе временных параметров ВРС в группе наблюдения отмечалось снижение SDNN1 (50,5 ± 5,9 мс – в группе наблюдения, 64,5 ± 11,9 мс – в группе сравнения, р = 0,042); RMSSD1 (43,0 ± 7,7 мс, 66,1 ± 16,7 мс соответственно, р = 0,013), что подтверждает снижение ВРС, увеличение тонуса симпатической нервной системы на фоне снижения тонуса парасимпатической системы у работников группы наблюдения по отношению к группе сравнения (табл. 4).
Таблица 4
Показатели временного и спектрального анализов вариабельности ритма сердца в покое у работников химических производств
|
Показатель |
Норма |
Группа |
p * |
|
|
наблюдения |
сравнения |
|||
|
SDNN 1 , мс |
54,5–65,1 |
50,5 ± 5,8 |
64,6 ± 11,9 |
< 0,05 |
|
RMSSD 1 , мс |
36,3–48,5 |
42,9 ± 7,6 |
66,2 ± 16,6 |
< 0,05 |
|
TP 1 , мс2 |
1561–4754 |
3021 ± 673 |
5223 ± 2212 |
> 0,05 |
|
VLF 1 , мс2 |
355,8–1175,1 |
1138 ± 222 |
1574 ± 507 |
> 0,05 |
|
LF 1 , мс2 |
513,1–1425,5 |
1040 ± 280 |
1438 ± 697 |
> 0,05 |
|
HF 1 , мс2 |
461,1–1618,0 |
853 ± 292 |
2213 ± 1190 |
< 0,05 |
|
LF/HF 1 |
0,5–2,3 |
1,9 ± 0,5 |
1,1 ± 0,3 |
< 0,05 |
|
VLF 1 , % |
17,51–39,79 |
41,4 ± 4,2 |
37,2 ± 4,3 |
> 0,05 |
|
LF 1 , % |
24,63–42,72 |
33,2 ± 3,4 |
27,9 ± 3,1 |
< 0,05 |
|
HF 1 , % |
21,05–50,53 |
25,6 ± 4,1 |
34,9 ± 5,1 |
< 0,05 |
|
LF1 norm, n.u. |
41,2–60,0 |
57,5 ± 4,9 |
46,3 ± 5,4 |
< 0,05 |
|
НF1 norm, n.u. |
40,0–58,8 |
42,4 ± 4,7 |
53,7 ± 5,5 |
< 0,05 |
П р и м е ч а н и е : * р – достоверность различий между группами наблюдения и сравнения.
Анализ полученных данных установил зависимость вероятности повышения индекса вагосимпати-ческого равновесия (LF/HF 1 ) от увеличения уровня производственного шума ( F = 1257; R 2 = 0,9; р < 0,001, r = 0,6), а также концентрации в ВРЗ хлора ( F = 61; R 2 = 0,3; р < 0,001, r = 0,3) и гидрохлорида ( F = 136; R 2 = 0,5; р < 0,001, r = 0,3).
Анализ показателей СПГ не выявил отклонений от условной нормы у работников обеих групп. Однако при анализе показателей СПГ в динамике было уста- новлено, что у 29 % работников группы наблюдения отмечалось ежегодное снижение объема форсированного выдоха за 1 с на 39,2 ± 5,8 мл в год при допустимом – 30 мл в год; у работников группы сравнения ежегодное снижение объема форсированного выдоха за 1 с в среднем составляло 31,5 ± 3,1 мл в год (p < 0,05), что свидетельствует о субклиническом течении БОД.
Анализ результатов лабораторных исследований выявил у работников группы наблюдения ряд отклонений в показателях, отражающих субклинические нарушения в системе кровообращения и дыхания, а именно характеризующих наличие кардиориска ( RR = 1,8; 95 % CI = 1,2–2,8; EF = 45 %), а также признаки вторичного иммунодефицитного состояния и степень выраженности адаптационных реакций [21–23]. У работников группы наблюдения наблюдалось повышение концентрации мочевой кислоты до 378 [313; 420] мкмоль/дм3 (в группе сравнения – 302 [251; 358] мкмоль/дм3, р < 0,05). Указанные изменения выявлены уже при стаже работы, начиная с 5,1–10 лет (389 [362; 421] мкмоль/дм3 в группе наблюдения, 296 [239; 364] мкмоль/дм3 в группе сравнения, р < 0,05). Статистически значимым было повышение атерогенной фракции – липопротеидов низкой плотности – у работников в группе наблюдения: 4,2 [3,7; 5,5] ммоль/дм3, (3,2 [2,8; 3,6] ммоль/дм3 – в группе сравнения, р < 0,05). Уровень суперчувствительного С-реактивного белка у работников группы наблюдения (6,7 [6,2; 7,2] мг/дм3) достоверно превышал аналогичный показатель группы сравнения – 5,0 [4,5; 5,5] мг/дм3 ( р < 0,05), а концентрация VEGF у работников группы наблюдения достигала 345 [242; 510] пг/дм3 (в группе сравнения – 179 [90; 299] пг/дм3, р < 0,001). При сравнительном анализе данного показателя в стажевых группах максимальная его концентрация наблюдалась у работников при стаже 15,1 г. и более (471 [332; 695] пг/дм3 в группе наблюдения и 106 [81; 259] пг/дм3 в группе сравнения, р < 0,001). Уровень гомоцистеина у работников группы наблюдения составил 12,5 [10,0; 14,4] мкмоль/дм3, в группе сравнения – 7,8 [4,6; 12,2] мкмоль/дм3 ( р < 0,001), при этом статистически значимые различия были выявлены в группе со стажем 15,1 г. и более – 13,7 [10,8; 14,9] мкмоль/дм3 у работников группы наблюдения и 8,5 [4,6; 13,6] мкмоль/дм3 у работников группы сравнения ( р < 0,05). Обращало на себя внимание, что у работников группы наблюдения концентрация кортизола крови (287 [191; 487] нмоль/см3) превышала аналогичный показатель у работников группы сравнения (204 [178; 352] нмоль/см3 ( р < 0,05)).
Анализ иммунологического статуса и реактивности показал, что у работников группы наблюдения уровень лейкоцитов в крови достоверно превышал аналогичный показатель группы сравнения (6,6 [5,7; 8,5]·109/дм3 и 5,9 [5,1; 7,2]·109/дм3 соответственно, р < 0,001). Наиболее выраженное межгрупповое различие зафиксировано у работников при стаже 15 лет и более (6,7 [5,6; 8,7]·109/дм3 – в группе наблюдения; 5,5 [4,7; 7,2]·109/дм3 – в группе сравнения, р < 0,05). Нарушение фагоцитарного звена также наблюдалось преимущественно у работников группы наблюдения (абсолютный фагоцитоз в группе наблюдения – 2,11 [1,54; 2,83]·109/дм3, в группе сравнения – 1,77 [1,40; 2,23]·109/дм3, р < 0,05), как и нарушение гуморального звена иммунитета (уровень IgA у работников группы наблюдения составил 2,4 [1,93; 2,83] г/дм3, группы сравнения – 1,79 [1,40; 2,16] г/дм3, р < 0,001), а также активация клеточного звена иммунитета (в группе наблюдения концентрация CD16+56+лим-фоцитов составила 0,32 [0,27; 0,60]·109/л, в группе сравнения – 0,22 [0,21; 0,25]·109/л, р < 0,05; CD3+CD25+ в группе наблюдения – 0,35 [0,24; 0,52]·109/л, в группе сравнения – 0,14 [0,10; 0,16]·109/л, р < 0,001).
По результатам обследования выделены основные патогенетические звенья развития БСК и БОД – синдромы эндотелиальной дисфункции, субклинического воспаления и антиоксидантного стресса, с учетом чего разработана корпоративная программа профилактики нарушения здоровья работников [7].
Опыт работы с предприятиями показал, что эффективность реализации программы профилактики повышается при взаимодействии со специалистами охраны труда. Гигиенические мероприятия позволяют снизить уровень риска здоровью работника.
В результате построения математических моделей зависимости «экспозиция – стаж – ответ» установлена вероятность развития производственно обусловленных БОД в зависимости от уровня и длительности экспозиции производственных факторов. Уровень риска развития БОД у работников химических производств в существующих условиях труда сформирует 6 дополнительных случаев уже к концу первого года работы, а к 5 годам достигнет 14 случаев в год. В отношении производственно обусловленной АГ уровень риска к концу первого года работы составит 8 дополнительных случаев заболевания, а к 10 годам – 25 дополнительных случаев в год.
Ситуационное моделирование показало, что снижение концентрации хлора в воздухе рабочей зоны до уровня ПДК может способствовать уменьшению индивидуального риска развития БОД у стажированных работников (5 лет и более) на 42 % (с 14 до 6 случаев в год).
Учитывая полученные результаты, разработана корпоративная программа профилактики здоровья с ранжированием работников на группы риска:
-
– 1-я группа – работники, не предъявляющие жалобы, не имеющие клинических признаков БСК и / или БОД (стадия удовлетворительной адаптации или резистентности);
-
– 2-я группа – работники, не предъявляющие жалобы, но имеющие функциональные нарушения при отсутствии клинических симптомов (стадия неудовлетворительной адаптации);
-
– 3-я группа – работники, предъявляющие жалобы и имеющие лабораторные или функциональные признаки БСК и / или БОД (стадия напряжения адаптации);
-
– 4-я группа – работники с впервые установленными БСК и / или БОД, не имеющие противопоказаний к продолжению профессиональной деятельности (стадия срыва адаптации).
Группы риска были сформированы по результатам ПМО.
Корпоративные программы предполагают взаимодействие службы охраны труда и промышленной безопасности предприятия с медицинскими организациями и центрами профпатологии.
По результатам ПМО работодатель принимает решение о целесообразности разработки и реализации корпоративной профилактической программы и заключает договор с научным учреждением на оценку риска здоровью работников, на разработку и реализацию программы.
Мероприятия, обеспечивающие сохранение трудовых ресурсов , обеспечиваемые работодателем: модернизация производства, в том числе создание новых рабочих мест, соответствующих классу условий труда, «допустимые» для предпенсионных работников, имеющих медицинские противопоказания к выполнению работ во вредных условиях труда; информирование работника о профессиональном риске; ограничение влияния вредных факторов на работника (защита временем, дозой, расстоянием); использование современных средств индивидуальной защиты (активных шумопоглощающих наушников, полумасок со сменными фильтрами и т.п.); повышение качества ПМО.
В соответствие с ранжированием на группы риска по результатам предыдущего ПМО ежегодный медицинский осмотр у данного контингента работников проводился по программе углубленного обследования с расширением объема, регламентированного приказом 302н, в зависимости от этого осуществлено повторное ранжирование на группы риска с целью проведения медико-профилактических или медикореабилитационных мероприятий.
Первичная профилактика болезней системы кровообращения и органов дыхания включала: информирование работника о вероятности развития БСК и БОД, краткое профилактическое консультирование; формирование мотивации на сохранение здоровья: самоконтроль АД, пульса, индекса массы тела, окружность талии и бедер, отказ от курения или исключение пассивного курения, отказ от употребления алкоголя, регулярные и умеренные физические нагрузки, занятия спортом, ежедневные прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима дня и ночи (ночной сон не менее 8 ч), сбалансированное и рациональное питание, исключение стрессовых ситуаций.
Медицинские мероприятия включали расширенный объем регламентированных обследований на этапе ПМО для контингентов работников со средним и высоким риском; ежегодное обследование их в центре профпатологии.
Медико-реабилитационные мероприятия для работников 1-й группы риска включали информиро- вание о профессиональных рисках здоровью; краткое профилактическое консультирование; неспецифическую сезонную иммунопрофилактику и формирование саногенной мотивации.
Для работников 2-й группы риска к общим мероприятиям дополнительно проводилось углубленное профилактическое консультирование; неспецифическая сезонная иммунопрофилактика и противогриппозная вакцинация; физическая профилактика: физиотерапия (аэроионизация), иглорефлексотера-пия, массаж волосистой части головы и воротниковой зоны, лечебная физкультура – 10 сеансов, оздоровление в санатории-профилактории по программе профилактики 14 дней.
Программа для работников 3 группы была расширена вакцинацией трудящихся с частыми рецидивами БОД вакциной «Пневмо 23» и медикаментозной профилактикой: антиоксиданты, поливитаминные и полиминеральные комплексы курсами по 14 дней два раза в год. По показаниям – терапия БОД и / или БСК. Физическая профилактика включала лекарственный фонофорез и магнитотерапию – 10 сеансов, массаж грудной клетки и дыхательную гимнастику – 10 сеансов; антиоксидантную терапию, энергосберегающие препараты, бета-каротин с минеральными веществами – курс 30 дней.
Для работников 4-й группы проводилось информирование о профессиональных рисках и о трудовом прогнозе; формирование саногенной мотивации; физическая и медикаментозная профилактика, а также лечение основного заболевания (постоянная гипотензивная терапия и / или бронходилататоры и муколитические препараты и т.п.); оздоровление в санатории-профилактории по программе реабилитации 21 день.
Медико-профилактические и медико-реабилитационные мероприятия включают четыре этапа: первый этап - мероприятия по профилактике БОД и БСК у работников 1-й группы риска проводятся в условиях медицинского пункта предприятия; второй этап - мероприятия по профилактике БОД и БСК у работников 2-й группы риска, а также часто и длительно болеющих простудными заболеваниями путем организации диспансерного наблюдения в условиях медицинского пункта предприятия совместно с врачом-профпатологом медицинской организации; третий этап - регулярное оздоровление работников, имеющих начальные формы общего заболевания БОД и с выявленными предикторами БСК ( 3-я группа риска ) в центре профпато-логии с проведением экспертизы профпригодности; четвертый этап - медико-реабилитационные мероприятия работникам 4-й группы риска ежегодно в центре профпатологии, экспертиза профпригодности и связи заболевания с профессией.
Медико-профилактические и медико-реабилитационные мероприятия направлены на повышение качества жизни, улучшение переносимости физической нагрузки, сохранение трудоспособности, устранение или снижение выраженности симптомов БСК и БОД, снижение количества рецидивов БОД или ухудшения БСК, снижение смертности.
Результаты обследования через год после реализации корпоративной программы показали, что при действии профилактической программы снизилась доля производственной обусловленности для болезней системы кровообращения ( EF = 66 % до внедрения программы; EF = 47 % – после реализации программы) и болезней органов дыхания ( EF = 51 % до внедрения программы; EF = 39 % – после реализации программы). В группе наблюдения достоверно уменьшилось количество работников, у которых на момент ПМО зарегистрировано высокое АД (до реализации программы 33 % работников, после – 11 %, р < 0,05; RR = 1,1; 95 % CI = 1,0–3,3; EF = 39 %), в 1,8 раза уменьшилось количество работников с ограничениями к выполнению отдельных видов работ по результатам ПМО по причине БСК (до реализации программы 14 работников, после – 8, р < 0,05) и практически в 3 раза – по причине болезней органов дыхания (до реализации программы 32 работника, после – 11, р < 0,05); в 2,5 раза снизилась обращаемость работников за медицинской помощью по поводу БСК и болезней органов дыхания, в том числе ОРВИ; отмечено снижение количества нуждающихся в дообследовании (с 35 до 26 %) и представленных на экспертизу профпригодности (с 30 до 14 %); практически в 3 раза снизилась доля работников, имеющих медицинские противопоказания к продолжению трудовой деятельности (по причине АГ – с 33 до 11 %, по болезням органов дыхания – с 14,5 до 5,0 %). Наблюдалась положительная динамика при сравнительном анализе результатов обследования (табл. 5).
Анализ функциональной активности эндотелия плечевой артерии показал, что до реализации программы профилактики минимальный прирост диаметра составил 5 %, максимальный – 32 %, вариационный размах R = 27; а после реализации – 10,42 и 28,57 % соответственно, R = 18,15 % (см. табл. 5).
Результаты по показателям УЗИ БЦА до и после реализации программы профилактики выявили уменьшение ТКИМ, что также свидетельствует об улучшение структурного состояния эндотелия сосудов (см. табл. 5).
Оценка эффективности реализации программы профилактики показала, что для атерогенных фракций холестерина (ЛПНП) связь с условиями труда становится недостоверна ( RR = 1,2; 95 % CI = 0,9–1,6); а для уровня мочевой кислоты в крови ( RR = 1,3; 95 % CI = 1,3–9,6; EF = 32,5 %) и функциональной активности эндотелия плечевой артерии ( RR = 2,1; 95 % CI = 1,1–6,3; EF = 33 %) отмечено снижение этиологической доли и относительного риска, то есть снижается риск развития болезней системы кровообращения и органов дыхания.
Таблица 5
Сравнительный анализ показателей до и после реализации программы профилактики
|
Показатель |
До реализации программы профилактики |
После реализации программы профилактики |
р * |
|
Лабо |
раторные показатели |
||
|
Липопротеиды низкой плотности, ммоль/дм3 |
5,5 ± 0,5 |
4,9 ± 0,2 |
< 0,05 |
|
С-реактивного белка, суперчувствительного, мг/дм3 |
6,7 ± 2,2 |
4,7 ± 0,5 |
< 0,05 |
|
Мочевая кислота, мкмоль/дм3 |
390 ± 82,7 |
267 ± 37,3 |
< 0,05 |
|
Гомоцистеин, мг/дм3 |
15,1 ± 3,2 |
8,9 ± 2,4 |
< 0,05 |
|
Активность эндотелия плечевой артерии |
|||
|
Минимальный прирост диаметра плечевой артерии, % |
5 |
10,42 |
< 0,05 |
|
Максимальный прирост диаметра плечевой артерии, % |
32 |
28,57 |
< 0,05 |
|
Вариационный размах (разница максимального и минимального значений прироста диаметра, % |
27 |
18,15 |
< 0,05 |
|
Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий |
|||
|
Толщина комплекса интима-медиа |
1,2 ± 0,09 |
0,9 ± 0,07 |
< 0,05 |
П р и м е ч а н и е : * р – достоверность различий между группой наблюдения и группой сравнения.
Выводы:
-
1. У работников химических предприятий на фоне реализации профилактической программы установлено снижение производственной обусловленности для болезней системы кровообращения ( EF = 66 % до внедрения программы; EF = 47 % – после) и органов дыхания ( EF = 51 % до внедрения программы; EF = 39 % – после).
-
2. В результате реализации профилактической программы с учетом уровня риска практически в три раза снизилась доля работников, имеющих медицинские противопоказания к продолжению трудовой деятельности (по причине АГ – с 33 до 11 %, по болезням органов дыхания – с 14,5 до 5,0 %).
-
3. Внедрение на предприятиях корпоративных профилактических программ позволяет снизить риск развития болезней системы кровообращения и органов дыхания и сохранить работнику профессиональную трудоспособность, а работодателю трудовой потенциал предприятия.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Список литературы Корпоративные программы профилактики нарушения здоровья у работников вредных предприятий как инструмент управления профессиональным риском
- Масленникова Г.Я., Оганов Р.Г. Профилактика неинфекционных заболеваний как возможность увеличения ожидаемой продолжительности жизни и здорового долголетия // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2019. - № 2. - С. 5-12.
- Основные проблемы совершенствования правовых механизмов сохранения профессионального здоровья работающего населения // В.Л. Ромейко, Е.Л. Потеряева, Г.П. Ивлева, Н.В. Кругликова, Н.Л. Труфанова // Здоровье населения и среда обитания. - 2018. - Т. 307, № 10. - С. 46-49.
- Профессиональные риски здоровью работников химического комплекса / Э.Т. Валеева, А.Б. Бакиров, В.А. Капцов, Л.К. Каримова, З.Ф. Гимаева, Р.Р. Галимова // Анализ риска здоровью. - 2016. - № 3. - С. 88-97. DOI: 10.21668/health.risk/2016.3.10
- Титова Е.Я., Голубь С.А. Современные проблемы охраны здоровья сотрудников крупного промышленного предприятия, работающих в условиях профессиональных вредностей // Анализ риска здоровью. - 2017. - № 4. - С. 83-90. DOI: 10.21668/health.risk/2017.4.09
- Гигиеническая оценка влияния условий труда на здоровье работников комплекса по производству фталевого ангидрида и фумаровой кислоты / В.Б. Алексеев, П.З. Шур, Д.М. Шляпников, В.Г. Костарев // Гигиена и санитария. - 2018. - Т. 97, № 1. - С. 54-58.
- Распространенность сердечно-сосудистой патологии у работников алюминиевой промышленности / Н.И. Панев, О.Ю. Коротенко, С.Н. Филимонов, Е.А. Семёнова, Р.Н. Панев // Гигиена и санитария. - 2019. - Т. 98, № 3. - С. 276-279.
- Пономарева Т.А., Власова Е.М., Шкляев О.В. Распространенность, этиологические факторы и структура профессиональной бронхиальной астмы в различных отраслях промышленности Республики Башкортостан // Медицина труда и экология человека. - 2017. - Т. 11, № 3. - С. 43-48.
- Опыт оценки профессионального риска, связанного с воздействием охлаждающего микроклимата, в условиях модернизации металлургического предприятия / Е.Л. Базарова, А.А. Федорук, Н.А. Рослая, И.С. Ошеров, А.Г. Бабенко // Здоровье населения и среда обитания. - 2019. - Т. 318, № 9. - С. 56-61.
- Денисов Э.И., Степанян И.В., Челищева М.Ю. Статистическая оценка связи нарушений здоровья с работой (COC) [Электронный ресурс] // Нейрокибернетика. - URL: http://neurocomp.ru/cgi-bin/opr/sos/start.py (дата обращения: 06.04.2020).
- Опыт доказательства связи заболеваний с профессией на основе расчета показателей профессионального риска / И.В. Бойко, О.Н. Андреенко, С.В. Гребеньков, Е.С. Шалухо, В.Н. Федоров, Г.П. Орлова // Гигиена и санитария. - 2018. - Т. 97, № 12. - С. 1239-1243.
- Мещакова Н.М., Шаяхметов С.Ф., Дьякович М.П. Совершенствование методических подходов к оценке риска нарушений здоровья у работающих при воздействии химического фактора // Гигиена и санитария. - 2017. - Т. 96, № 3. - С. 270-274.
- Методические подходы к расчету вероятности негативных ответов для оценки индивидуальных рисков здоровью человека / Н.В. Зайцева, П.З. Шур, Д.А. Кирьянов, В.М. Чигвинцев, О.В. Долгих, К.П. Лужецкий // Профилактическая и клиническая медицина. - 2015. - Т. 56, № 3. - С. 5-11.
- Методические подходы к интегральной оценке функционального состояния организма горнорабочих / Т.С. Шушкова, А.В. Тулакин, Б.В. Устюшин, Б.Н. Сучалкин, Н.С. Кутакова, Т.И. Шубенкова // Санитарный врач. - 2013. - № 4. - С. 40-45.
- Оценка связи разнородных факторов риска и заболеваемости работающего населения регионов России с различным фоном формирования здоровья / Н.А. Лебедева-Несеверя, А.О. Барг, М.Ю. Цинкер, В.Г. Костарев // Анализ риска здоровью. - 2019. - № 2. - С. 91-100.
- DOI: 10.21668/health.risk/2019.2.10
- Методические подходы к оценке популяционного риска здоровью на основе эволюционных моделей. Здоровье населения и среды обитания / Н.В. Зайцева, П.З. Шур, Д.А. Кирьянов, М.Р. Камалтдинов, М.Ю. Цинкер // Здоровье населения и среда обитания. - 2013. - № 1. - С. 4-6.
- Чигвинцев В.М. Анализ математической модели регуляции работы иммунной и нейроэндокринной систем с учетом функциональных нарушений органов // Математическое моделирование в естественных науках. - 2017. - № 1. - С. 128-131.
- Факторы риска и шансы развития метаболических нарушений у рабочих одного из предприятий ОАО "Ураласбест" / Н.И. Пряничникова, Т.В. Мажаева, С.Э. Дубенко, Т.Ю. Обухова, И.А. Чиркова // Медицина труда и промышленная экология. - 2014. - № 6. - С. 22-25.
- Оценка окислительного стресса как критерия риска развития заболеваний у работающих разного возраста / Л.А. Страхова, Т.В. Блинова, В.В. Трошин, С.А. Колесов, Р.С. Рахманов, И.А. Умнягина // Медицина труда и экология человека. - 2018. - № 2. - С. 61-65.
- Baradaran A., Nasri H., Rafieian-Kopaei M. Oxidative stress and hypertension: Possibility of hypertension therapy with antioxidants // Journal of Research in Medical Sciences: The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences. - 2014. - Vol. 19, № 4. - P. 358-367.
- Bernatova I. Endothelial dysfunction in experimental models of arterial hypertension: cause or consequence? [Электронный ресурс] // BioMed research international. - 2014. - P. 598271. - URL: http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/598271 (дата обращения: 05.09.2019).
- Golbidi S., Frisbee J.C., Laher I. Chronic stress impacts the cardiovascular system: animal models and clinical outcomes // American journal of physiology. Heart and circulatory physiology. - 2015. - Vol. 308, № 12. - P. 1476-1498.
- DOI: 10.1152/ajpheart.00859.2014
- Association between High-Sensitivity C-Reactive Protein and Total Stroke by Hypertensive Status Among Men / M.C. Jiménez, K.M. Rexrode, R.J. Glynn, P.M. Ridker, J.M. Gaziano, H.D. Sesso // Journal of the American Heart Association. - 2015. - Vol. 9, № 4. - P. e002073.
- DOI: 10.1161/JAHA.115.002073
- Бушуева Т.В., Рослая Н.А., Рослый О.Ф. Сравнительный анализ иммунологического профиля рабочих металлургических предприятий // Гигиена и санитария. - 2015. - Т. 94, № 2. - С. 47-50.