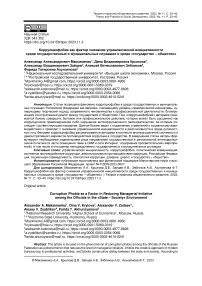Коррупциофобия как фактор снижения управленческой инициативности среди государственных и муниципальных служащих в среде «государство - общество»
Автор: Максименко А.А., Крылова Д.В., Зайцев А.В., Зябликов А.В., Ахунзянова Ф.Т.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 11, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена феномену коррупциофобии в среде государственных и муниципальных служащих Российской Федерации как явлению, снижающему уровень управленческой инициативы, купирующему творческий подход современного чиновничества к профессиональной деятельности, блокирующему конструктивный диалог между государством и обществом. Под «коррупциофобией» авторами понимается боязнь совершить бытовое или профессиональное действие, которое может быть расценено как коррупционное правонарушение либо нарушение антикоррупционного законодательства, за которым последует соответствующее наказание. Данная боязнь ведет к подавлению стремлений к социальному взаимодействию и приводит к снижению управленческой инициативности и респонсивности в среде должностных лиц. Феномен коррупциофобии рассматривается авторами в контексте анализа различий системного и демонстративного вариантов противодействия коррупции в государстве. В завершение статьи авторы формулируют необходимые корректировки ряда направлений государственной и региональной антикоррупционной политики (в части освещения темы в СМИ и сети Интернет, содержания просветительских мероприятий), в том числе в отношении непосредственно государственных и муниципальных служащих.
Управленческая инициативность, коррупциофобия, политическая коммуникация, системное противодействие коррупции, демонстративное противодействие коррупции, российская федерация, социальная справедливость, психология коррупции, доверие, диалог «государство - общество»
Короткий адрес: https://sciup.org/149144609
IDR: 149144609 | УДК: 343.352 | DOI: 10.24158/tipor.2023.11.3
Текст научной статьи Коррупциофобия как фактор снижения управленческой инициативности среди государственных и муниципальных служащих в среде «государство - общество»
Противодействие коррупции – один из наиболее актуальных вопросов современного правового поля, а также популярная повестка для средств массовой информации (СМИ) и сетевого пространства. Данная тема в последние годы достаточно активно артикулируется и в научнопросветительской среде. Исследователи анализируют проблемы природы коррупции как деструктивного социального и экономического явления (Белов, 2012; Быстрова, Сильвестрос, 2000), изучают ее различные проявления (Соколов, 2020), вырабатывают рекомендации по совершенствованию методик борьбы с коррупцией на различных уровнях (Павлова, Твердохлеб, 2021), рассматривают возможности использования современных технологий (в частности, базирующихся на моделях искусственного интеллекта) для предупреждения и выявления коррупционных правонарушений (Крылова, Максименко, 2021).
Ученые сходятся во мнении, что противодействие коррупции должно иметь системный характер; важными факторами успеха при этом являются: степень консолидации государственных и общественных сил, рост уровня гражданской сознательности и активности, а также совершенствование антикоррупционного законодательства (сообразное видоизменениям форм и содержательных основ коррупции) (Сидоров, 2017; Фещенко, 2019).
На текущем этапе противодействия распространения данного негативного явления в РФ имеется законодательная база, позволяющая бороться с ним системно: Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273–ФЗ1, Национальная стратегия противодействия коррупции (утверждена Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460)2, до 2024 г. действует Национальный план противодействия коррупции в РФ (утвержден Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478)3. Ограничения, связанные с коррупцией, содержит и Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79–ФЗ4.
Однако законодательные механизмы, даже самые безупречные и совершенные, не будут эффективно работать без опоры на гражданское общество. Так, Б.В. Сидоров, ссылаясь на федеральное законодательство, отмечает: «Участие широких народных масс в антикоррупционной деятельности, целенаправленная активность гражданского общества, отдельных граждан и их организаций на всех этапах этой деятельности имеют особое значение. Взяточники и иные участники коррупционных правонарушений (преступлений) больше опасаются не своих коллег-чиновников, наделенных функциями надзора, контроля за их служебной деятельностью и функцией преследования за корыстное злоупотребление служебным положением, казнокрадство и иные виды коррупционной деятельности, а сознательных граждан, для которых коррупция – нетерпимое зло, с которым они готовы бороться, если, конечно, “власть имущие” не на словах, а на деле проявят политическую волю относительно “неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений” и наделят “институты гражданского общества, организации и физических лиц” необходимыми “полномочиями”, о которых упоминается в ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 273–ФЗ от 25 декабря 2008 г.» (Сидоров, 2017: 113–114).
О степени сознательности населения в вопросах борьбы с коррупцией говорит анализ восприятия этого феномена. Так, по итогам исследования 2019 г., проведенного группой исследователей среди жителей Костромской области, было выявлено, что коррупция трактуется населением региона преимущественно в узком смысле («дача взятки»), а не в более широком («злоупотреблением служебным положением»). При этом опрошенные сходились во мнении о необходимости «солидаризированных действий в борьбе с коррупцией как сочетания общественного контроля и решительной политической воли Президента РФ» (Восприятие коррупции как социальноэкономического феномена населением региона: структурный аспект …, 2019: 175). В связи с этим был сделан вывод о том, что «для того, чтобы препятствовать коррупционным проявлениям в органах власти, важно изменять через просветительские антикоррупционные программы отношение к коррупции и ее восприятие в верном направлении – как “использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству”» (Восприятие коррупции как социально-экономического феномена населением региона: структурный аспект …, 2019: 175).
Всероссийское исследование, ориентированное на изучение отношения к коррупции граждан нашей страны, показало, что россияне в недостаточной степени выражают готовность оказывать помощь институтам контроля и наказания и непосредственно участвовать в пресечении коррупционных деяний. При этом «довольно большая часть коррупционных практик (дарение, добровольная дача взятки, взаимные услуги, деловые договоренности и ретроградное премирование за предоставление более выгодных условий и т. д.) находятся в зоне серой коррупции, воспринимаемой россиянами как цивилизованные партнерские отношения» (Отношение россиян к коррупции …, 2020: 422).
Подобное положение дел усиливает коррупционные риски в обществе, а также негативно сказывается на взаимоотношениях населения с органами государственной и муниципальной власти. Чиновники традиционно считаются одной из ключевых групп коррупционного риска. По данным Росстата, на середину 2021 г. в России имелось около чуть более 3,3 млн чел. служащих и работников категории «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение». С вычетом штатной численности военнослужащих и гражданского персонала ВС указанное количество сокращается до 1,4 млн чел., однако все равно государственные и муниципальные служащие составляют солидный сегмент профессионального состава населения РФ1.
Используя метод анализа документов и кейсов, попробуем разобраться в этом феномене, искажающем и само противодействие коррупции, а также снижающем уровень инициативности государственных и муниципальных служащих и блокирующем диалог между государством и обществом.
Чиновничество как одна из самых критикуемых в народе (по поводу и без) профессиональных групп испытывает определенный ментальный и профессиональный дискомфорт: инертное (или даже панибратское) отношение населения к возможной коррупционной ситуации (когда речь идет о собственных интересах) при обращении в государственные и муниципальные органы, с одной стороны, и превентивный нажим государства (как работодателя) на служащих – с другой, способствуют возникновению в среде последних состояния «коррупциофобии».
Данное понятие практически не отражено в научном и информационном сегменте отечественного социально-экономического дискурса. По соответствующему запросу поисковая система «Яндекс» выдает перечень ссылок на один и тот же материал под авторством А. Вассермана – выдержку из книги «Хронические комментарии к российской истории» (Вассерман, 2013), в которой исследователь критикует инструмент оценки «восприятия» коррупции экспертным сообществом и населением как не дающий четкой картины реального состояния коррупции, а описывающий «степень беспокойства жителей страны по этому поводу» (Вассерман, 2013).
На ресурсе научной электронной библиотеки «Киберленинка» материалы, где понятие «коррупциофобия» присутствовало бы в заголовке, перечне ключевых слов или непосредственно в тексте не выявляются.
В нашем понимании коррупциофобия – это боязнь совершить бытовое или профессиональное действие, которое может быть расценено как коррупционное правонарушение или нарушение антикоррупционного законодательства и за которым последует соответствующее правовое наказание. Данная боязнь ведет к подавлению стремлений к социальному взаимодействию и к отрицанию управленческой инициативности в среде должностных лиц (государственных и муниципальных служащих). Коррупциофобия искажает (гиперболизирует) восприятие коррупции и ее последствий (в первую очередь персональных).
Коррупциофобию провоцирует и освещение в СМИ действий правоохранительных и следственных органов по борьбе с коррупцией. Именно характер публикуемых материалов (чаще всего – самые громкие дела) ставит вопрос о подлинном содержании данной борьбы: является ли она действительно системной (направленной в первую очередь на искоренение коррупции во всех сферах) или же демонстративной (связанной с выстраиванием грамотной инфополитики, отвлекающей население от реального состояния дел в секторе коррупции и борьбы с ней).
Однако корни коррупциофобии в среде чиновничества залегают гораздо глубже широко транслируемой информационной повестки. Уже на этапе отбора на службу потенциальный чиновник ощущает на себе давление вопроса «чистоты совести и помыслов». Соискателю предстоит прохождение квалификационных испытаний, в которых теме коррупции (законодательная база, понятийный аппарат и т.д.) фактически отводится главенствующая роль; тестовые задания также содержат солидный объем вопросов, связанных с понятиями «конфликт интересов», «взятка», «подкуп» и т.д. Потенциальный чиновник также должен подать на рассмотрение комиссии пакет документов, полностью раскрывающих его финансовое состояние (доходы различных видов, имеющаяся собственность). При этом он строго предупреждается, что информация о его финансах должна абсолютно соответствовать действительности, иначе ему может быть отказано в рассмотрении его кандидатуры в числе претендентов на должность.
Это приводит к тому, что человек, еще не успев приступить к исполнению обязанностей, уже напуган тем, что отныне любая его промашка, даже неосознанная (например, не указанный в справке о доходах банковский счет с нулевым балансом, не используемый уже много лет), может быть расценена как некое коварство, часть плана по незаконному обогащению, связанному с потенциальным местом работы в структуре государственной или муниципальной службы. Кроме того, соискателям и непосредственным государственным и муниципальным служащим ежегодно приходится отчитываться о доходах и имуществе супругов и детей, что не всегда просто с учетом вариативности возможных жизненных ситуаций.
Подобная подотчетность ввергает служащих в негативное состояние, когда страх быть наказанным, лишиться должности и понести репутационные издержки базируется не на осознании реально допущенных случаев коррупционного поведения или нарушения антикоррупционного законодательства, а на банальной паранойе. В то же самое время СМИ и сетевые ресурсы активно тиражируют инфоповоды о том, что силовики и чиновники крупного калибра оказываются под следствием за коррупцию (дела «золотого полковника» Д. Захарченко, экс-губернатора Сахалина А. Хорошавина, генерала ФСБ Ю. Сулина и др.). При этом газета «Новые известия» в январе 2023 г. писала о том, что за последние три года «кривая коррупционных преступлений ползет вверх»1. Как указано в статье, эксперты связывают это в первую очередь с интенсификацией антикоррупционной активности общества и силовых структур, а не с ростом реального количества правонарушений2. Однако условному чиновнику среднего звена, писавшему объяснительную из-за того, что внутренними переводами со своей банковской карты на свой же банковский счет он создал фиктивную картину имеющихся у него средств, сложно понять, как в государстве, так активно борющемся с коррупцией даже на низовом уровне (среди специалистов со скромными окладами), может долгие годы оставаться безнаказанным служащий высокого ранга с миллиардными запасами, зашитыми в стену своей виллы.
Реальные коррупционеры отвергают общепринятые моральные принципы, опираясь на собственный интеллект и некий цинизм: «Они готовы игнорировать установленные правила, руководствуясь своими индивидуальными ценностями, оппортунистическими мотивациями и прагматичными взглядами» (Крылова, Максименко, 2022 a: 248). Однако подобных чиновников меньшинство, это пример «коррупции хищника»; более распространена коррупция комфорта (среди чиновников среднего и низшего ранга). Кроме того, нередки случаи, когда «хищники» за вознаграждение делегируют коррупционные «полномочия», формально оставаясь вне преступных схем. Это создает дополнительное давление на чиновников среднего и низшего ранга, которые зачастую оказываются сразу между нескольких «огней»: им необходимо организовать работу так, чтобы не получать за нее сомнительные вознаграждения от благодарных граждан; выстраивать аккуратные отношения с начальством, так как в данном разрезе они могут попасть под подозрения в нечестности, а также (желая сохранить свою работу) имеют опасность быть втянутыми в незаконные схемы; принимать многократно взвешенные решения и буквально дрожать над достоверностью любого заверенного их подписью документа – простая человеческая невнимательность или техническая ошибка, опечатка (особенно в финансовой отчетности) могут привести к началу уголовного преследования.
Чиновники, опасаясь репутационных издержек, при распределении целевых средств федерального и регионального бюджета, зачастую ведут себя безынициативно: любая персональная идея (даже самая здравая и безупречная с точки зрения совести) о направлении средств в то или иное русло (например, при субсидировании строительной отрасли, проектов городского благоустройства, сфер образования, просвещения, туризма и др.) может быть расценена коллегами, народом или же контролирующими органами как попытка направить деньги на развитие сомнительного, персонально выгодного проекта. Поэтому многие государственные и муниципальные служащие, стремясь нивелировать возможные подозрения, при решении актуальных для населенного пункта (региона, страны) задач стараются либо идти уже «проторенной дорожкой», либо согласовывать каждый шаг и слово с вышестоящим начальством, которое также может пытаться переложить ответственность выше. Когда же приходит время подписания акта выполненных работ, чиновник (который априори не имеет возможности полностью проконтролировать качество реализации субсидированного его ведомством проекта) направляет исполнителя в арбитражный суд, чтобы заручиться поддержкой третьей стороны и, возможно, экспертизой, снимающей с него подозрения в том, что он участвовал в сговоре с целью приобретения выгоды для себя.
Но если полковник Д. Захарченко, бывший заместитель начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (!) МВД РФ, за период практически в 10 лет (2007–2016 гг.) смог получить взятки на астрономическую сумму в 1,4 млрд руб., велась ли все эти годы реальная борьба с коррупцией? И не был ли последующий информационный гром его дела демонстративным запугиванием, в том числе и чиновничества?
Существует и другой пример борьбы с коррупцией в РФ. Речь о кресле мэра Владивостока, о котором издание «Аргументы и факты» писало так: «Должность градоначальника в России чрезвычайно опасна с точки зрения уголовной ответственности. Счет мэров, которые из своих кресел переместились сразу на тюремные нары, идет уже на десятки. Но даже на этом фоне должность мэра Владивостока – аномальная. Назначение на этот пост делает фактически неизбежной необходимость сушить сухари»1. Экс-мэр Игорь Пушкарев (2008–2017 гг.) был осужден на 15 лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере, до него уголовным преследованиям по коррупционным статьям подвергались владивостокские градоначальники Владимир Николаев (2004–2008 гг.), Юрий Копылов (2000–2004 гг.), Виктор Черепков (1994, 1996–1998 гг.).
Значит ли это, что реальная коррупция в Приморском крае в несколько раз выше, чем в любом из регионов Центрального федерального округа, не прославившихся подобными громкими скандалами? Едва ли.
Широкое освещение коррупционных дел и скандалов в средствах массовой информации, с одной стороны, говорит об открытости власти, но с другой – взращивает коррупциофобию, главный негативный эффект которой – страх репутационных издержек, связанных с профессиональной деятельностью, снижение инициативности государственных и муниципальных служащих.
С коррупциофобией связан вопрос о системном и демонстративном противодействии коррупции (табл. 1). Такого рода деятельность повышает доверие населения к государственным и муниципальным служащим, не оказывает негативного влияния на их инициативность, не ввергает чиновников в состояние коррупциофобии, при этом реальный уровень коррупции в стране снижается. Демонстративное противодействие, создавая иллюзию масштабной борьбы, подавляет инициативу чиновников, снижает уровень доверия к ним со стороны граждан, усиливает их тревожность и паранойю при принятии управленческих решений, при этом уровень коррупции в стране остается высоким (институционально).
Таблица 1 – Сравнительный анализ различий системного и демонстративного противодействия коррупции
Table 1 – Comparative Analysis of the Differences between Systemic and Demonstrative Counteraction to Corruption
|
Характер противодействия |
Инициативность |
Доверие |
Коррупциофобия |
Коррупция |
|
Системное |
Не влияет |
Повышается |
Снижается |
Снижается |
|
Демонстративное |
Подавляется |
Понижается |
Повышается |
Неоднозначно2 |
Даже при наличии законодательной базы, позволяющей вести системную борьбу с коррупцией, в реальной практике не хватает гибких механизмов и достаточных условий, которые не нивелировали бы инициативу государственных гражданских и муниципальных служащих.
Приведем отрывок из сетевой статьи 2019 г. «Борьба с коррупцией или ее имитация»: «Что касается нечистых на руку чиновников высшего звена, то, несмотря на увеличение количества громких уголовных дел в отношении таких лиц, общество не воспринимает данную практику как полноценную, системную борьбу с коррупцией. Достаточно почитать комментарии к публикуемым фактам подобного рода – подавляющее большинство наших сограждан считают, что тот или иной попавшийся в жернова правоохранителей крупный деятель, “нахапавший” миллионы, а то и миллиарды, занимая важный пост, либо с кем-то не поделился, либо перешел кому-то дорогу, а может, влез на чью-то чужую “поляну” и стал “доить не свою корову”. Версий много, но только мало кто при этом верит, что речь идет о настоящей войне, объявленной облеченным властью коррупционерам. Да и как тут можно спорить? Что ни делец высокого полета (губернатор ли, министр, высокопоставленный сотрудник правоохранительных и прочих структур исполнительной власти, сенатор или депутат), то миллиарды обнаруженных денежных средств, которые даже не спрятаны в тайниках, а лежат на виду, в шкафах, сейфах, а иногда в хозяйственных мешках»1.
Эти слова, автором которых является один из отечественных адвокатов, говорят о том, что демонстративность (даже несмотря на размах и громкую тональность) не свидетельствует о системности. Она лишь запутывает население и запугивает (лишает инициативности) массу служащих, изначально не склонных к коррупционному поведению.
Таким образом, коррупциофобия, с одной стороны, предостерегает многих государственных гражданских и муниципальных служащих от возможных коррупционных правонарушений, но с другой – оказывает негативное воздействие на их инициативность, купирует любой творческий подход к работе (в некоторых сферах, например, науке, образовании, культуре и др. чиновникам он действительно не помешал бы), ввергает в состояние тревожности и паранойи. На наш взгляд, вышеуказанные противоречия могут быть хотя бы отчасти преодолены за счет корректировки некоторых основ государственной и региональной антикоррупционной политики. Среди необходимых мер следует назвать следующие:
– изменение характера освещения вопросов коррупции и результатов борьбы с коррупцией в СМИ (уход от сгущения красок, внесение в повестку стабильной парадигмы, полагающей борьбу с коррупцией неотъемлемым элементом государственной политики, инструментом установления социальной справедливости, а не самоцелью);
– ненавязчивая антикоррупционная пропаганда, аккуратно вплетенная в том числе в общую систему просветительских мероприятий среди различных категорий населения страны (данный запрос среди жителей РФ весьма высок при неизменном интересе россиян к путям развития государства) (Dukhanina, Maksimenko, 2019);
– разъяснительный, а не устрашающий характер антикоррупционного просвещения. Подобная работа должна проводиться системно, начиная со старшей ступени школы, плавно перетекая в учреждения среднего профессионального образования и вузы. В частности, первокурсникам (среди которых изначально присутствует определенное количество будущих государственных и муниципальных служащих) со дня поступления в учебное заведение необходимо разъяснять, как стоит действовать, если они стали объектами или свидетелями вымогательства (Представления о коррупции в системе высшего образования у выпускников ведущих российских вузов …, 2020). В то же время необходимо работать в этом направлении с сотрудниками и преподавателями ссузов и вузов (нормирование этической культуры) (Проблемы нормирования этической культуры преподавателей российских университетов …, 2022). В целом, важно усиливать моральный контент-компонент в системе высшего профессионального образования (Этические установки будущих представителей государственного управления и бизнес-сообщества: сравнительный анализ …, 2023).
В отношении непосредственно борьбы с коррупциофобией как с фактором отрицания управленческой инициативности в среде государственных и муниципальных служащих требуется:
– деликатная имплементация антикоррупционных этических стандартов как ценностных элементов культуры государственных и муниципальных служащих (в доверительной, а не предосудительной риторике);
– поощрительная политика в отношении инициативных служащих (особенно в среднем и низшем звене);
– совершенствование системы контроля доходов и имущества государственных гражданских и муниципальных служащих (через налоговую инспекцию, банки и другие социальные институты без вовлечения в изнурительное заполнение справок самих служащих);
– активное внедрение технологий, позволяющих оценивать кандидата на должность на предмет склонности к коррупции незаметно для него самого (Крылова, Максименко, 2022 б).
Постулирование феномена коррупциофобии как научной и общественной проблемы имеет ряд дальнейших исследовательских перспектив:
– формирование понятийно-категориальной базы;
– статистический анализ (изучение соотношения фактического количества коррупционных правонарушений и нарушений антикоррупционного законодательства в среде чиновничества различных уровней);
– проведение социологического исследования среди государственных и муниципальных служащих (на уровне столиц, мегаполисов, регионов) по вопросам коррупциофобии в их среде.
Список литературы Коррупциофобия как фактор снижения управленческой инициативности среди государственных и муниципальных служащих в среде «государство - общество»
- Белов В.В. Феномен российской коррупции // Вестник государственного и муниципального управления. 2012. № 3. С. 75-81.
- Быстрова А.С., Сильвестрос М.В. Феномен коррупции: некоторые исследовательские подходы // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. Т. 3, № 1. С. 83-101.
- Вассерман А.А. Хронические комментарии к российской истории: новая эра глазами Вассермана. М., 2013. 383 с.
- Восприятие коррупции как социально-экономического феномена населением региона: структурный аспект / М.И. Беркович [и др.] // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12, № 2. С. 161 -178. https://doi.org/10.15838/esc.2019.2.62.10.
- Крылова Д.В., Максименко А.А. Есть ли у российского коррупционера совесть? Особенности принятия этических решений российскими государственными служащими // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2022 a. № 3 (169). С. 230-253. https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.3.2076.
- Крылова Д.В., Максименко А.А. Роль искусственного интеллекта в антикоррупционном рекрутинге // Научный результат. Серия: Технология бизнеса и сервиса. 2022 б. Т. 8, № 2. С. 94-107. https://doi.org/10.18413/2408-9346-2022-8-2-0-9.
- Крылова Д.В., Максименко А.А. Использование искусственного интеллекта в вопросах выявления и противодействия коррупции: обзор международного опыта // Государственное управление. Электронный вестник. 2021. № 84. С. 241-255. https://doi.org/10.24412/2070-1381 -2021 -84-241 -255.
- Отношение россиян к коррупции / А.А. Максименко [и др.] // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Социология. 2020. Т. 13, № 4. С. 407-428. https://doi.org/10.21638/spbu12.2020.404.
- Павлова Г.Г., Твердохлеб К.А. Современные методы противодействия коррупции на государственном и муниципальном уровне // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2621. № 3 (56). С. 50-56.
- Представления о коррупции в системе высшего образования у выпускников ведущих российских вузов / О.С. Дейнека [и др.] // Высшее образование в России. 2020. Т. 29, № 7. С. 64-74. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-7-64-74.
- Проблемы нормирования этической культуры преподавателей российских университетов / А.А. Максименко [и др.] // Высшее образование в России. 2022. Т. 31, № 2. С. 9-27. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2022-31-2-9-27.
- Сидоров Б.В. Системный подход к решению проблем противодействия коррупции // Вестник экономики, права и социологии. 2017. № 1. С. 109-117. https://doi.org/10.18454/VEPS.2017.1.5510.
- Соколов А.В. Негативно-социальные проявления коррупции // Образование и право. 2020. № 4. С. 208-218. https://doi.org/10.24411/2076-1503-2020-10429.
- Фещенко П.Н. Системный подход к противодействию коррупции // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 2 (99). С. 138-143. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2019.99.2.138-143.
- Этические установки будущих представителей государственного управления и бизнес-сообщества: сравнительный анализ / А.А. Максименко [и др.] // Образование и наука. 2023. Т. 25, № 2. С. 68-97. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2023-2-68-97.
- Dukhanina L., Maksimenko A. Enlightenment Demands of Russians // Educational Studies. Moscow. 2019. № 2. Р. 226-240. https://doi.org/10.17323/1814-9545-2019-2-226-240.