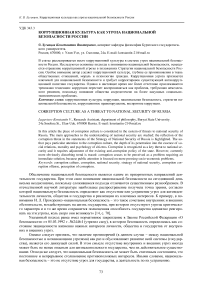Коррупционная культура как угроза национальной безопасности России
Автор: Лугавцов Константин Викторович
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: S6, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается место коррупционной культуры в системе угроз национальной безопасности России. Исследуются основные подходы к пониманию национальной безопасности, освещается отражение коррупционной угрозы в положениях Стратегии национальной безопасности России. Особое внимание автор уделяет коррупционной культуре, глубине ее проникновения в ткань общественных отношений, мораль и психологию граждан. Коррупционная угроза признается ключевой для национальной безопасности и требует корректировок существующей антикоррупционной политики государства. Однако в настоящее время все более отчетливо прослеживается тревожная тенденция: коррупция перестает восприниматься как проблема, требующая немедленного решения, поскольку внимание общества сосредоточено на более насущных социально -экономических проблемах.
Коррупционная культура, коррупция, национальная безопасность, стратегия национальной безопасности, коррупционное правонарушение, восприятие коррупции
Короткий адрес: https://sciup.org/148183304
IDR: 148183304 | УДК: 343.3
Текст научной статьи Коррупционная культура как угроза национальной безопасности России
Обеспечение национальной безопасности является одним из приоритетных направлений деятельности государства. При этом само понимание национальной безопасности на сегодняшний день весьма неоднозначно, поскольку сложившиеся подходы отличаются существенным разнообразием. В отечественной научной литературе наибольшее распространение получила точка зрения, согласно которой национальную безопасность определяют как отсутствие или устранение угроз для жизнедеятельности личности, общества и государства и реализации их ключевых интересов. К примеру, в понимании И. Л. Прохоренко «национальная безопасность – это такое сочетание внутренних и внешних обстоятельств, воздействующих на жизнь государства, при котором отсутствуют угрозы критического характера и в то же время сохраняется полноценная способность государства адекватно реагировать на эти угрозы, коль скоро они возникнут» [14, с. 70].
Указанный подход ранее имел нормативное закрепление в Законе Российской Федерации «О безопасности» от 05.03.1992 г. №2446-I (утратил силу), в котором безопасность определялась как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
Однако следует признать, что наличие противоречий (в данном случае – между национальной безопасностью и возникающими угрозами) как раз и обусловливает развитие всей системы (государства), является его движущей силой. В этом смысле отсутствие внутренних и внешних угроз иногда может быть не менее опасным для жизнедеятельности государства, чем их действительное существование. Отсюда же следует, что национальная безопасность не может быть статичным состоянием, это постоянное и непрерывное столкновение противоположных интересов. Иными словами, национальная безопасность – это не отсутствие угроз для государства, а деятельность по их устранению.
Это приводит нас к следующему подходу, трактующему национальную безопасность как не просто борьбу государства и общества с внутренними и внешними угрозами, но и условие для дальнейшего развития общества. К примеру, М. П. Хрипковым национальная безопасность определяется как функциональная деятельность, обеспечивающая не только жизнедеятельность общества и государства, но и их дальнейшее развитие [16, с. 9]. М. В. Александров понимает под национальной безопасностью состояние нормального функционирования и развития национальной политико-правовой системы, определяемое объективными и субъективными факторами. Исходя из этимологии слова «безопасность», состояние национальной безопасности определяется: а) объективным, не зависящим от человеческого волеизъявления отсутствием угроз национальным интересам (объективный фактор); б) целенаправленной защищенностью национальных интересов от угроз (субъективный фактор) [1, с. 17].
В п. 6 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2009 №537 (далее – Стратегия национальной безопасности), категория «национальная безопасность» определена как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства [15].
Таким образом, национальная безопасность представляет собой трансформирующееся, полиас-пектное и многоуровневое явление. Она может рассматриваться как общественное явление, как теория и процесс, как показатель состояния России в мировом сообществе [2, с. 32].
Формирование научного понятия национальной безопасности представляется принципиально важным, так как, во-первых, это оно должно отразить сущностное содержание данной категории, во-вторых, корректно его сформулировать, выделить наиболее важные содержательные элементы. Учитывая вышеизложенное, сформулируем следующее понятие национальной безопасности – это есть деятельность, направленная на противостояние внутренним и внешним деструктивным воздействиям и обеспечивающая нормальное функционирование общества и государства, а также их дальнейшее развитие.
Основными направлениями обеспечения национальной безопасности Российской Федерации являются стратегические национальные приоритеты, которыми определяются задачи важнейших социальных, политических и экономических преобразований для создания безопасных условий реализации конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета государства [15]. Однако полноценная реализация указанных направлений, защита интересов личности, общества и государства невозможны без целенаправленной борьбы с коррупцией.
Как известно, коррупция выступает одним из наиболее опасных факторов, деструктивно влияющих на состояние национальной безопасности государства. Она подрывает всю систему управления, подменяет формальные отношения неформальными и выстраивает стену недоверия между обществом и властью. Разрушительному воздействию подвергаются основы правового регулирования жизни общества. Как феномен общественной и государственной жизни коррупция обладает повышенной степенью общественной опасности в сравнении с другими схожими элементами социальной действительности.
Указанная позиция нашла отражение в п. 37 Стратегии национальной безопасности. Коррупция в нем отнесена к основным источникам угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности. Сохранение условий для коррупции и криминализации хозяйственнофинансовых отношений названо одним из главных стратегических рисков и угроз национальной безопасности в экономической сфере. Явным недостатком здесь выступает придание статуса угрозы лишь преступным посягательствам, связанным с коррупцией, без учета иных коррупционных проявлений. Безусловно, в сравнении с иными правонарушениями преступление (в том числе коррупционное) обладает таким признаком, как общественная опасность. Общественная опасность есть основополагающий, материальный признак преступного деяния; она носит объективный характер и реально существует в действительности. Но сведение коррупции как угрозы национальной безопасности исключительно к таким ее проявлениям, как коррупционные преступления, является не совсем верным.
Во-первых, ныне действующий Уголовный кодекс РФ просто не охватывает многих форм и видов социально опасной коррупции, таких как коррупционные лоббизм, фаворитизм, непотизм, переход государственных должностных лиц (сразу после отставки) на должности президентов подкормленных банков и корпораций и др.
Во-вторых, весь комплекс нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупционной преступности, до сих пор не содержит самого понятия «коррупционное преступление».
В-третьих, масштабное проникновение коррупции во все сферы общественной жизни наряду с недостаточно эффективным подходом к противодействию ей требует признания всех форм ее проявления в качестве угроз национальной безопасности страны.
О неудовлетворительном состоянии борьбы с коррупцией на сегодняшний день убедительно свидетельствуют рейтинги международной организации Transparency International, в отчете которой за 2014 г. по индексу восприятия коррупции Россия заняла 136 место, поделив его с Нигерией, Ливаном, Киргизией, Ираном и Камеруном [8]. В 2013 г. Россия занимала в подобном исследовании 138 место (между Пакистаном и Бангладешем) [7], в 2012 г. – 133 место [6], в 2011 году – 143 место [5], в 2010 г. – и вовсе 154 [4], в 2009 г. (первый год реализации ФЗ «О противодействии коррупции») – 146 место [3]. Соответственно, качественных изменений в борьбе с коррупцией не происходит, и принятие специального федерального закона также не способствовало перелому ситуации.
То, что Россия прочно застряла в нижней части списка, крайне отрицательно сказывается как на перспективах экономического роста и повышении инвестиционной привлекательности страны, так и на общем доверии граждан к серьезности усилий власти по противодействию коррупции.
Согласно отчету ВЦИОМ, коррупция и бюрократизм стабильно входят в тройку рейтинга наиболее важных проблем нашей страны в восприятии граждан, их показатели практически не меняются: 43% в июле 2013 г. и 42% в июле 2014 г. [3]. Однако за последние полгода намечается новая тенденция: коррупция перестает восприниматься как проблема, требующая немедленного решения; внимание граждан «уходит» от этой темы в сторону более насущных социальных и экономических проблем (например, роста цен, инфляции, безработицы). При такой «селекции» приоритетов проблема коррупции, не теряя своей актуальности, все же не воспринимается как то, что непосредственно угрожает повседневной жизни среднестатистического россиянина. Это подтверждается и отчетом ВЦИОМ «Начало 2015 года: проблемный фон страны», в котором лишь 10% опрошенных отнесли коррупцию к наиболее важным проблемам страны в сентябре 2014 г., а дальнейшее падение завершилось показателем в 4% в январе 2015 г. [13]. Такая нестабильность в восприятии коррупции объясняется тем, что люди свыклись, приспособились к коррумпированности большинства общественных институтов. Она воспринимается скорее как привычное зло, бороться с которым бесполезно.
Итак, при достаточно выраженном в массовом сознании понимании важности борьбы с коррупцией многим россиянам свойственна определенная нечувствительность к ней, что обусловлено как приоритетностью «ценностей повседневной жизни», так и сложившимися отношениями государства и общества. Граждане привыкли, что деятельность государства и его отдельных институтов не ориентирована на защиту их прав и интересов [12, с. 6].
Как отмечает Р. А. Александров, «национальные интересы как гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства, детерминируются жизненно важными потребностями и ценностными приоритетами, сформировавшимися в ходе исторического развития государствообразующего русского народа и иных народов проживающих на территории РФ» [1, с. 17]. Отсюда возникает парадоксальная ситуация: люди видят проблему коррупции, воспринимают ее как угрозу национальной безопасности, признают важность ее решения, но лично для себя не считают ее существенной. Отсутствие связи между проблемами общества в целом и конкретной личности (на примере коррупционной угрозы) – вот заметная черта национального менталитета, свидетельство укоренения отдельных негативных явлений в массовом сознании. Связано это и с падением нравов: «По данным ВЦИОМ, самой большой эрозии подверглись «фундаментальные» качества россиянина: честность (падение в 5 раз), доброжелательность (в 6 раз), бескорыстие (в 8 раз), чувство товарищества (в 4 раза)» [11, с. 52].
В этих условиях коррупция прошла своеобразную стадию «легитимации», став для многих обыденным явлением. На основе изменения общественных ценностей и принятия в массовом сознании асоциальных установок коррупция становится специфической и устойчивой формой социального взаимодействия, замещает легальные социальные взаимодействия неформальными практиками. По мнению Е. Г. Каменского, «в России коррупция гораздо шире понятия организационной культуры или временной дисфункции – это традиция, аккумулирующая ценностно-нормативный потенциал практически всего спектра субъектов институционального взаимодействия» [10, с. 81]. «В условиях российской действительности данные процессы аккумулируются стойкой исторической традицией коррупции в условиях объективных онтологических предпосылок ее возникновения как социальноправового феномена» [10, с. 79].
В подобных условиях возможен коллапс всей системы управления, экономики, права, государственности. Как справедливо отмечает В. В. Колесников, именно глубина проникновения коррупционных явлений в ткань общественных отношений, мораль и психологию людей позволяет отнести коррупцию к числу главных угроз национальной безопасности [11, с. 51]. А потому сегодня ситуация такова: или российское общество и государство способны переломить негативную коррупционную тенденцию, сведя коррупционные риски до социально терпимого уровня, или дальнейшее государственное развитие попросту невозможно.
Список литературы Коррупционная культура как угроза национальной безопасности России
- Александров Р.А. Государственно-правовое противодействие наркобизнесу в контексте генезиса и эволюции системы национальной безопасности России (опыт ретроспективного анализа и теоретико-правового моделирования): автореф. дисс.. д-ра юрид. наук. -СПб., 2008. -49 с.
- Зеленков М.Ю. Теоретико-методологические проблемы теории национальной безопасности Российской Федерации. -М.: Изд-во Юридического института МИИТа, 2013. -196 с.
- Индекс восприятия коррупции-2009: без борьбы с коррупцией модернизация невозможна//. -URL: http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/ivk-2009 (дата обращения 26.02.2015).
- Индекс восприятия коррупции-2010: как было плохо, так плохо и осталось//. -URL: http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/ivk-2010 (дата обращения 26.02.2015).
- Индекс восприятия коррупции-2011: небольшая позитивная динамика//. -URL: http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/ivk-2011 (дата обращения 26.02.2015).
- Индекс восприятия коррупции-2012: новая точка отсчета//. -URL: http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/rossiia-v-indekse-vospriiatiia-korruptcii-2012-novaia-tochka-otscheta (дата обращения 26.02.2015).
- Индекс восприятия коррупции-2013: усилий власти недостаточно, чтобы изменить положение//. -URL: http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/zastriali (дата обращения 26.02.2015).
- Индекс восприятия коррупции-2014: оценка России упала на один балл//. -URL: http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2014-otcenka-rossii-upala-na-odin-ball (дата обращения 26.02.2015).
- Июль-2014: проблемный фон страны//. -URL: http://wciom.ru/index.php?id= 459&uid=114930 (дата обращения 20.02.2015).
- Каменский Е.Г. Коррупционная культура: теоретико-концептуальный конструкт//Вестник Института социологии. -2014. -№ 4(11). -С. 73-92.
- Колесников В.В., Быков В.Н., Борисов О.А. Коррупция как угроза национальной безопасности: о специфике криминологического подхода//Криминологический журнал БГУЭП. -2007. -№ 3-4. -С. 50-57.
- Кофанова Е.Н., Петухов В.В. Общественное мнение о коррупции в России//Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. -2005. -№ 1. -С. 4-16.
- Начало 2015 года: проблемный фон страны//. -URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115140 (дата обращения 20.02.2015).
- Прохоренко И.Л. Национальная безопасность и баланс сил/Баланс сил в мировой политике: теория и практика. -М.: ИМЭМО РАН, 1993. -С. 66-91.
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537).
- Хрипков М.П. Внутренние угрозы национальной безопасности России: сущность, структура, социальные последствия: автореф. дисс.. д-ра социол. наук. -М., 2004. -49 с.